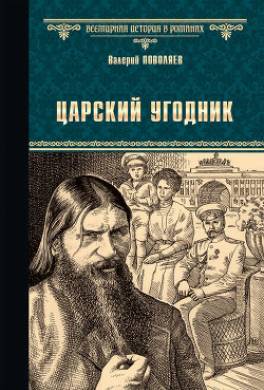Валерий Поволяев. Царский угодник
Пролог
Лето в петербургских пригородах выдалось в тот год жаркое, затяжное, на крестьянских огородах и делянках мещан-дачников начисто выгорели огурцы и появились неведомые дотоле, черные, со сморщенными опасными телами, покрытыми мерзким редким волосом, тарантулы.
Тарантулы пугали на огородах баб, проворно перемещались, задирая зады, по земле, норовили ущипнуть иного мужика за ногу и вообще оказались большими любителями овощей. Те, кто все-таки смогли отстоять у жары свои огурцы с помидорами, были бессильны перед новой напастью: тарантулы поглощали овощи с поспешностью голодной саранчи, выгрызали у огурцов мякоть, оставляли только шкурку да семечки, помидоры же, которые дачники выращивали для соусов – жидкие, почти без мякоти, – просто выпивали, прозрачную, тонкую шкурку выплевывали – от помидоров после хищных волосатых насекомых почти не оставалось следа.
Несмотря на огородную сушь, жару, воздух сыро и тяжело давил на людей, вызывал кашель; это на юге, где-нибудь в Крыму либо в Туркестане, жара переносится легко, в Петербурге совсем по-другому. Такое ощущение, будто воздух кипит, бурлит, фыркает, как кипяток в кастрюле, ошпаривает кожу, перетягивает чем-то тугим горло, не дает продышаться.
Хуже всего чувствовали себя в эту пору сердечники.
В один из таких жарких дней в петербургских пригородах появился человек. Он был одет в старые, кое-где уже подранные и неумело зачиненные штаны, в выгоревшую ситцевую рубаху с косым воротником, через плечо у него была перекинута жидкая котомка, в противовес котомке, больно бьющей путника по костлявой спине, спереди гнездились связанные за ушки поношенные, со стоптанными каблуками и несколькими заплатами на союзках сапоги.
Шел этот человек босиком. Чтобы не сбивать ноги, он старался ступать по шпалам.
Путник зорко оглядывал обочины, поворачивал голову назад, опасаясь, что его может настигнуть поезд, часто останавливался, чтобы отдохнуть и послушать пение птиц, иногда ставил босую ногу на рельс, замирал на несколько мгновений – слушал дорогу, пытаясь понять, идет по ней поезд или не идет, и если чувствовал, что поезд идет, сходил на обочину, на рыжую, пахнущую мазутом тропку, пропускал состав и вновь забирался на железнодорожный путь.
В одном месте на его пути встал железнодорожный будочник – здоровенный, рыжий, в сапогах, за голенища которых были заткнуты два сигнальных флажка – желтый и красный, с серебряной боцманской дудкой за поясом, с противной ухмылкой на лоснящихся, будто он вдоволь поел сала, губах.
– Ты знаешь, что по железнодорожным путям ходить запрещено? – строго спросил будочник у босоногого путника.
– Нет, – без особой робости ответил тот.
– Напрасно. Чтоб впредь знал это, возьму-ка я да и определю тебя лет на десять на Сахалин <см. Комментарии, Стр. 8…на Сахалин…>, тележки с рудой таскать да каторжные песни исполнять по воле начальства.
– За что?
– Было бы за что – вообще пристрелил бы, прямо тут же, на рельсах, не отходя от кассы, а так Сахалин – и вся недолга! Десять лет отбарабанишь – по путям ходить никогда больше не будешь. Понял? Ты кто?
– Божий человек.
– Это я вижу – Божий. Дурак, значит, раз сам за себя не отвечаешь. Блаженный… Не хочешь отвечать или не можешь?
Путник молчал. Не драться же ему с будочником. Во-первых, тот здоровее, а во-вторых – при исполнении. Раз при исполнении – значит, власть. Против власти же идти – все равно что мочиться против ветра: штаны от ширинки до обшлагов будут мокрыми. Путник приподнял одно плечо, сморщил свое темное, до костей продубленное солнцем лицо.
– Все понятно, – сказал будочник, – дурак, он и есть дурак. |