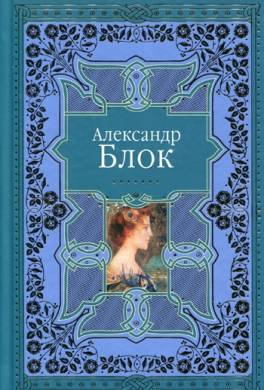Александр Блок. Искусство и газета
Многие люди любят красивое.
Красивое «в порядке вещей», оно – наше, здешнее. Не любить красивого просто очень трудно, для этого нужно – или быть уже очень забитым, замученным жизнью, или… знать что-нибудь о том, что больше, чем красивое, и больше, чем безобразное: о Прекрасном.
Прекрасного не любит почти никто.
Точнее, Прекрасного не взять силами той любви, которой люди любят красивое, или умное, или доброе, или правдивое; которой они любят закат солнца, красивую женщину, стройную диалектику, добрые дела.
Как все красивое в мире есть только блестящий покров, раскинутый над чем-то иным, к чему красивое относится лишь как условный знак, – так сквозь все многообразные силы любви может пробиться струя иной силы, которую, может быть, и нельзя назвать силою любви; так сквозь все слова о красивом, о добром, о правдивом можно расслышать иные слова, по отношению к которым вся россыпь внешних слов окажется лишь покровом; так россыпь звезд, звездная риза, о которой говорят поэты, кроет за собою иное, о чем звезды только рассказывают нам на языке своих мерцаний.
Красивые звезды, на которые смотрит девушка с балкона, когда ночь благоухает розами и сеном; умные звезды, на которые смотрел Гейне; добрые звезды, которые указывали путь мореходам; все они – только покров, и за этим покровом сквозит Прекрасное; Прекрасное снится и девушке, и Гейне, и мореходу.
Прекрасное – вот мир тех сущностей, с которыми имеет дело искусство. Вот почему искусство нельзя любить как природу, как женщину, как диалектику. Оно – не тот материал, с которым можно заигрывать или фамильярничать; его нельзя превозносить, им нельзя поступаться для чего бы то ни было. Им нельзя поступиться, от него можно только отступиться. Оно – величаво. Об этом думал Пушкин, когда говорил:
Служенье Муз не терпит суеты.
Прекрасное должно быть величавой
Только – величаво. Величавой может быть жизнь, величавой может быть смерть, величавой может быть гибель даже. Что несут с собою те миры, которые называются на нашем языке мирами искусства, какими бурями они нас ослепят, какие звуки преобладают в этом неведомом нам мировом оркестре, – мы не знаем; знаем мы лишь одно:
Прекрасное должно быть величаво.
Искусство никого не обманет, не надо же им обманываться.
Широкие круги публики к нему никогда не влеклись и теперь не влекутся, – и не надо им об этом знать; лучше человеку не слыхать о Данте, Эсхиле, Шекспире, Пушкине, чем разменивать их на мелкие монеты, пленяться их правдами, их нравственностями, их красивостями.
Чин отношения к искусству должен быть – медленный, важный, не суетливый, не рекламный. Речи об искусстве обязаны быть таковыми, и если они таковыми не будут, рано или поздно зачинщики суеты будут наказаны, на голову их падет та медленная кара, которая тяжелее всех скорых людских кар. Искусство мстит само за себя, как древнее божество или как народная душа, испепеляя, стирая с лица земли все то, в чем лежит признак суеты, что пытается своими маленькими, торопливыми, задыхающимися ритмами – заглушить его единственный и мерный ритм.
Газета по самой природе своей тороплива и буйна; чем быстрее ритм жизни, тем бешенее кричит политическая и всякая иная повседневность.
Является вопрос, можно ли в самом деле говорить на газетных страницах об искусстве, которое не имеет ничего общего с политикой, которое даже не враждует с ней, потому что миры искусства, до сей поры никогда в мире вполне не воплощавшиеся, относятся к политике приблизительно так же, как море относится к кораблю. |