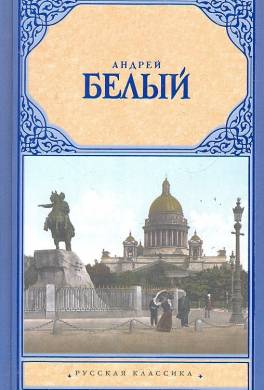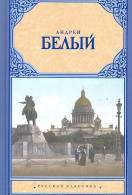Андрей Белый. А. П. Чехов
Чехов – это завершение целой эпохи русской литературы. А мы не можем сказать определенно, что его уже не начинают забывать.
Чехов – это огромный, всем нам нужный, важный для нас талант. Еще важнее его теоретическое место в конфигурации современных нам литературных школ. В нем встречаются, в нем скрещиваются противоположные течения: символизм и реализм. На Чехове лежит преемственность дорогих для нас литературных традиций Л. Толстого. И в то же время в чеховском творчестве заложен динамит истинного символизма, который способен взорвать многие промежуточные течения русской литературы; эти течения часто открещиваются от здорового честного реализма, портя свой реализм заемными румянами quasi-символических образов. В то же время среди символистов последнего времени процветают тенденции, извне сочетающие реализм с символизмом. После Чехова такое сочетание – абсурд. Мистические реалисты открывают в баранке и кренделе что-то особенное; они описывают крендель так, что волосы становятся дыбом. В то же самое время символисты нет-нет, – и посадят какой-нибудь из своих сверхвременных символов на пароход. Те и другие не имеют ничего общего с Чеховым. У тех и других – компромисс, у тех и других – предательство своего литературного пути. Те и другие не преодолевают ни символизма, ни реализма; те и другие представляют собою шаг назад в истории развития литературы последнего десятилетия сравнительно с Чеховым. Символисты, влекомые к «Знанию», «знаньевцы», растворяемые символизмом – все эти полусимволисты, полуреалисты далеки от истинного реализма Чехова. Но и действительность чеховских символов им чужда.
Поясним нашу мысль.
Нам кажется далеко не случайным, что наиболее крупный писатель последнего времени остался без школы, в то время как творчество Горького породило целую плеяду подражателей. В то же самое время Валерий Брюсов, вырастая у нас на глазах, уже образовал школу. Брюсов дал нам методы истинного символизма: он переходит от символа-переживания к образу-модели. Его мир – это мир двух действительностей, – из них видимость – только арка, под которой мы проходим в неизвестность.
Чехов, наоборот, исходя из реального образа, утончая и изучая самый образ видимости, рассматривает его как бы в микроскоп, указывает нам на то, что образ этот в сущности сквозной. Но выхода он не дает, и мы, окруженные неизвестностью, обречены пребывать в замкнутых пределах нашей стеклянной тюрьмы.
Брюсов нам как бы говорит своими образами: «Мы не можем объяснять на языке тайн. И вот я опускаю на тайну завесы условных знаков. Но посмотрите: условные знаки совпадают с окружающей действительностью». Чехов говорит нам обратное: «Я ничего не знаю о тайне, не вижу ее. Но изучите действительность в ее мгновенных мелочах. Я не знаю выхода из стен моей тюрьмы, но, быть может, бесконечные узоры, начертанные на стенах, не двухмерны, а трехмерны: они убегают в пространство неизвестности, потому что стены могут оказаться стеклянными, и то, что мы видим на их поверхности, может оказаться за пределом этой поверхности. Все же я ничего не знаю».
Школа Брюсова устанавливает культ мгновения. Ткань времени Чехов расчленил на отдельные элементы ее – мгновения. Здесь он завершитель истинного реализма (мир мгновенных образов и переживаний). Символизм и реализм, как начало и конец, соприкасаются в одной точке; эта точка – мгновение; но подходы к мгновению противоположны. В символизме мгновение есть средство запечатлеть переживаемое, не имеющее соотносительной формы выражения в видимости. В истинном реализме дезинтеграция времени в ряде отдельно взятых мгновений есть цель; средством этой цели является описание материала, данного нам в видимости и переживаниях. |