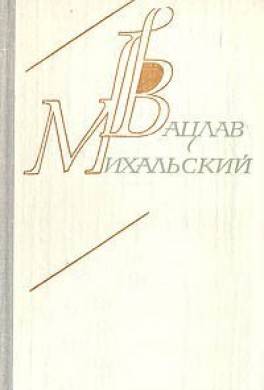Вацлав Михальский. Пловец
В столицах люди живут отдельно, и каждый мотается, как электрон, по своей орбите, не в силах превозмочь суету и присмотреться к соседу. Там словно и не бывает ни умирающих, ни убогих, ни скорбящих, ни шальных от счастья, там все — озабоченные. А в маленьком городе люди живут в полной известности друг о друге, и поэтому на каждой улице есть свой дурак или своя знаменитость.
У нас на Приморской обе эти роли достались сыну старенькой учительницы математики Марьюшки. Не помню, кажется, его звали Андреем, а уличное прозвище было у него Чугунок. Уже больным он читал очень много книг — его мать таскала их из библиотеки сетками, в пять минут устно решал любую школьную задачу по алгебре, и о нем говорили: «Дурной, дурной, а чугунок варит!» Наверное, отсюда и вышло прозвище Чугунок. Хотя его больше пристало бы назвать печкой: двухметрового роста, могучего телосложения, он напоминал высокую, под потолок, округлую голландскую печку, какие стояли у нас в классах. Рассказывали, что когда-то он окончил нашу школу с золотой медалью, а потом долго, чуть ли не десять лет, учился в Москве.
Мы жили по соседству. Летом он приезжал домой, и я живо помню, как наша Марьюшка, перед которой трепетала вся школа, робко советовалась с моей бабушкой, какой цветок срезать для букета, а потом бежала на вокзал встречать поезд.
Я так и вижу перед глазами… Розовый лоск раннего утра на черепичной крыше соседней, Марьюшкиной, мазанки, высокую черную козу с белыми дьявольскими глазами, привязанную к штакетине некрашеного забора, бабушку с подойником в руках, слышу радостный голос Марьюшки: «Уже доите, уже можно идти?» А на самой границе между нашими двориками стоит молодая белая вишня, и за нею, выше ее на голову, — обнаженный по пояс юноша. Спеша, чтобы молоко не остыло, Марьюшка подает ему банку через забор. Он протягивает длинную загорелую руку между ветками отцветающей вишни, и лепестки опадают на его исполинский торс. Запрокинув голову, он пьет большими глотками пахучее козье молоко, и волнистые нити пара дрожат у его лица.
Да, в те времена он был самым великим человеком на всей нашей улице, а Марьюшка — самой гордой матерью. Она высоко носила черноволосую маленькую голову, и ее, увеличенные стеклами очков, черные глаза сияли неколебимым торжеством. В те времена сын Марьюшки был для каждого на нашей улице недосягаемым образцом человеческого успеха, здоровья и счастья. А потом мы все вдруг узнали, что он «чокнулся». Моя бабушка говорила, случилось это с ним оттого, что он «переучился, хотел все узнать, а всего не узнаешь».
Как я сейчас понимаю, у него развилась мания преследования. Он боялся машин, собак, лошадей, кошек, а больше всего — нас, мальчишек: узнав однажды, что он нас боится, мы отравляли ему жизнь день за днем.
Круглый год Чугунок купался в море, он плавал, как дельфин, ему ничего не стоило покрыть тридцать — сорок километров. Мы же часами сторожили его, прячась за камнями на безлюдной косе, как только он подплывал к берегу, орали: «Чугунок! Чугунок!» — и гнали несчастного назад, в море. Иногда потешались так над ним до глубокой ночи, пока на берегу не появлялась Марьюшка.
— Ах вы, подлые! Подлые! Подлые! — со слезами в голосе кричала она и швыряла в нас галькой.
Но это была уже не та, прежняя Марьюшка— гроза всей школы, мать великого человека, а седая, высохшая, почти слепая старуха, мать дурачка, и мы ее не боялись. Не боялись, но отступали. И со звериным любопытством наблюдали издали, как выходил из пены морской огромный нагой мужчина и огромная тень ложилась на залитый лунным светом берег. Из недоступного для нас тайника в расселине высоко нависшего над водой утеса он доставал свою одежду. Одевался. Старуха брала его за руку и вела домой.
Миновав жестокий возраст детства, и я, и мои товарищи не только перестали издеваться над Чугунком, но сделались его защитниками перед подросшей следом за нами малышнею. |