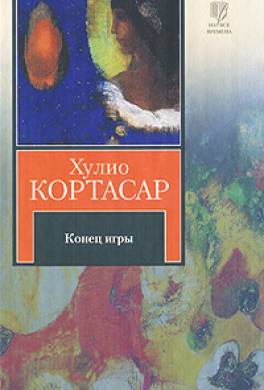Хулио Кортасар. Река
Ну что же, положим, ты уходила, пообещав напоследок броситься в Сену или что-то в этом же роде, обычные глупости, которые только и могут произноситься глубокой ночью, на скомканной простыне, ватным языком, а я их едва слышу, несмотря на твои попытки легкими прикосновениями привлечь мое внимание, так как давно уже глух к подобным твоим словам, скользящим по ту сторону моих закрытых глаз, по ту сторону сна, увлекающего меня куда-то вниз. А впрочем, это и к лучшему, что мне за дело, ушла ли ты, утонула ли, или все еще идешь по набережной, глядя в воду, а кроме того, все не так, ведь ты еще здесь и прерывисто дышишь во сне, и ты не уходила, уйдя среди ночи, когда сон меня еще не сморил, ибо мне помнится, что ты собиралась броситься в Сену или что тебе было страшно, однако ты передумала, и вот уже ты совсем рядом, и ты слегка колеблешься во сне, как если бы тебе снилось, что ты все же ушла и наконец оказалась на набережной и бросилась в воду. И так из раза в раз, чтобы потом заснуть с опухшими от глупых слез глазами и спать до одиннадцати, часа, когда разносят утренние газеты с сообщениями о тех, кто действительно утопился.
До чего ты смешна. Твоя патетическая решительность, такие театральные жесты, как потребность, уходя, хлопнуть дверью, заставляют задаться вопросом, неужели ты и впрямь веришь в свои угрозы, в свой дешевый шантаж, набившие оскомину полные драматизма сцены, замешанные на слезах, реестр эпитетов и упреков. Ты достойна другого мужчины, который не оставит твои слова без ответа, с которым вы мало-помалу вырастете в идеальную пару, в потихоньку смердящих мужчину и женщину, разлагающихся, глядя друг другу в глаза, чтобы удостовериться в ничтожной отсрочке, и снова жить, и снова ринуться в утверждение истинности невозделанного клочка земли и дна кастрюли. Итак, предпочитаю молчать, закуриваю сигарету и слушаю тебя, слушаю твои жалобы (согласен, однако чем же я могу помочь) или же, что куда предпочтительнее, засыпаю, убаюкиваемый твоими привычными проклятиями, прикрыв глаза и совместив на мгновение первые приливы сна с забавными взмахами твоих рук в ночной рубашке при свете люстры, которую нам подарили в день нашей свадьбы, и наконец, по-видимому, засыпаю, взяв с собой (признаюсь тебе в этом почти с любовью) все мало-мальски пригодное из твоих жестов и упреков, клокочущий звук, искажающий губы, посиневшие от негодования. Мои сны от этого станут богаче, в них, поверь мне, топиться никто не станет.
Будь это так, что тебя держит в этой постели, которую ты готова сменить на другую, широкую и струящуюся. Ты спишь и во сне слегка шевелишь ногой, придавая простыне все новые и новые очертания, похоже, ты чем-то раздражена или, скорее, огорчена, и твои губы, напитанные презрением, усталостью и горечью, едва ли не препятствуют дыханию, порывистому, как ветерок, и не будь я ожесточен из-за вечных твоих пустых угроз, я, как прежде, считал бы тебя прекрасной, как если бы во сне ты снова стала бы почти желанной, возвращая нас к утраченной близости и прежним чувствам, столь далеким от этого тревожного утра, зашелестевшего шинами и заголосившего холопствующими петушиными криками. Стоит ли снова и снова задаваться вопросом, действительно ли ты ушла и ты ли это хлопнула дверью в тот самый миг, когда я погружался в беспамятство, поэтому-то, наверное, я и хочу касаться тебя, пусть даже и не сомневаясь в том, что ты здесь, что ты так никуда и не вышла, это всего лишь ветер захлопнул дверь, мне померещилось, что ты ушла, а ты тем временем, не догадываясь, что я сплю, запугивала меня угрозами. И все же я к тебе прикасаюсь лишь потому, что так приятно в зеленоватом предрассветном полумраке дотронуться до вздрогнувшего и отпрянувшего плеча. Мои пальцы повторяют безупречную линию шеи, меня ласкает твое ночное, приторно-сладкое дыхание, и вот уже неосознанно привлекаю к себе твое едва прикрытое простыней тело, и, хотя, глухо протестуя, ты изгибаешься, пытаясь высвободиться, мы оба прекрасно знаем эту игру, чтобы в нее не верить, так уж заведено, чтобы ты отворачивалась, что-то отрывисто бормотала, отбиваясь всем своим дремотным и покоренным телом, все равно в эти мгновения мы нерасторжимы, раз черная и белая нити свирепо сплетаются, как пауки в кувшине. |