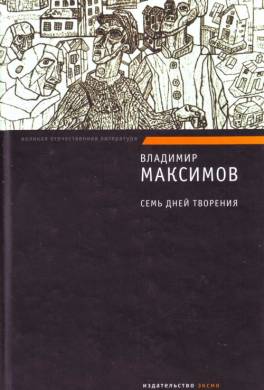Владимир Максимов. Семь дней творения
Семь дней творения
Понедельник
Путешествие к себе
I
Сны Петра Васильевича вообще отличались в последнее время диковинностью и пестротой, а сегодня ему снилось и вовсе что-то уж совсем ни с чем не сообразное…
Известные всей свиридовской слободе воры, братья Ламские, волокли мимо его окон паровозную трубу в детской коляске и при этом озорно подмигивали ему: пошли, мол? Он хотел было крикнуть им нечто презрительное и уничтожающее, но на их месте неожиданно возник непутевый, убитый еще в финскую кампанию, сосед его, Санька Баев, с ковригой пеклеванного под мышкой и с полбутылкой в свободной руке. Охватив «Московскую» за горлышко, он пьяно скалился в его сторону: врешь, мол, старый дурак!
Захлебнувшись обидой, он бросился было к окну, но тут же пришел в себя с удушливым колотьем под самым горлом. Рука его привычно потянулась к тумбочке и стала судорожно шарить по ней в поисках таблетки валидола, заготовленной, как всегда, еще с вечера.
Мятный холодок во рту принес ему обманчивое успокоение. И мысли, вялые и случайные, словно ветошь в мутном омутке, мысли, завязали свой обычный дневной круговорот.
Вот уже лет, примерно, около двадцати, с того самого тусклого мартовского утра, когда Петр Васильевич вернулся со скорых, небогатых даже и по тому голодному времени похорон жены, жизнь его приобрела подобие часового круга, где всякая цифирь отличалась от другой не цветом и содержанием, а только условной сутью.
Еще лежа он знал, что ровно в семь встанет, постучит в дощатую перегородку, что отделяет его комнату от светелки дочери Антонины, и та, по обыкновению, не ответит, но ему и без того будет ясно, что она услышала и уже поднялась, и вскоре бесшумно начнет свою ежеутреннюю работу: включит плитку и возьмется за сооружение для него шестиместной «кочубеевской» яичницы.
Потом он неспеша, со вкусом поплескается перед рукомойником, медлительно облачит себя в свои обычные доспехи: бумажные китайские брюки, шерстяные носки (мерзнут ноги!), ботинки на микропорке, косоворотку, суконный, еще довоенных времен жилет и чешский пиджак, купленный дочерью по случаю.
Яичницу Петр Васильевич съест молча, со внушительной вдумчивостью и, ровно в восемь, вооружившись у двери шляпой и палкой, все так же молча выйдет на улицу, которую он, в силу привычки, называет слободой.
А сейчас, до урочного времени, старик просто, безо всяких дум глядел в облитое первым июльским светом окно, за которым когда-то был небольшой садок десятка на два яблонь впере-межку с вишнями (причуда Петра Васильевича, тоже отдавшего в свое время дань новомодному тогда учению) и где теперь высилась красного цвета глухая стена заводского корпуса. Стена была такой непостижимо громадной, что иногда ему казалось, будто за ней уже ничего нет — пустота.
Завод, год от года обрастая строениями, все ближе придвигался к утлому дому, отжимая его к самой дороге, которая в свою очередь расползалась в ширину. Между этими двумя врагами, словно маленькое буферное государство в тисках гигантов, и отстаивал свою независимость приземистый, еще дедом отстроенный пятистенок, где одну комнату из четырех занимал Петр Васильевич.
В городе его знали все или почти все и, если не любили, для этого он никак себя не проявлял, то уж во всяком случае уважали, как, впрочем, уважают все, что хранит одним только своим существованием то, чего другие, хотя бы в силу возраста, не знают, да и знать не могут. Таким бывает уважение к памятнику, старой крепости, знаменитой горе.
Поэтому, когда известная всему городу палка стучала по асфальту, почти каждый ее стук бывал отмечен поклоном или приветствием:
— Васильичу!
Тук-тук…
— Здравствуйте, товарищ Лашков!
Тук-тук…
— Приветствую!
Тук-тук…
— Здоров, Петр Васильевич!
Тук-тук…
— Наше вам!
Тук-тук-тук…
И так весь день от восьми до восьми, с тремя перерывами: для обзора, впрочем беглого, газет на стендах, захода в столовую и обязательного, но не слишком затяжного отдыха в городском сквере между четырьмя и пятью. |