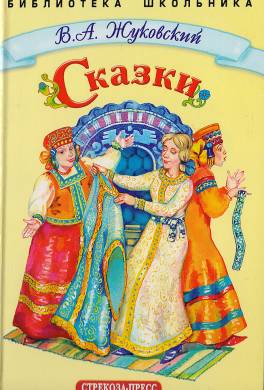Василий Жуковский. Cказки
Кот в сапогах
Жил мельник. Жил он, жил и умер,
Оставивши своим трем сыновьям
В наследство мельницу, осла, кота
И… только. Мельницу взял старший сын,
Осла взял средний; а меньшому дали
Кота. И был он крепко не доволен
Своим участком. «Братья, — рассуждал он,
Сложившись, будут без нужды; а я,
Изжаривши кота, и съев, и сделав
Из шкурки муфту, чем потом начну
Хлеб добывать насущный?» Так он вслух,
С самим собою рассуждая, думал;
А Кот, тогда лежавший на печурке,
Разумное подслушав рассужденье,
Сказал ему: «Хозяин, не печалься;
Дай мне мешок да сапоги, чтоб мог я
Ходить за дичью по болоту — сам
Тогда увидишь, что не так-то беден
Участок твой». Хотя и не совсем
Был убежден Котом своим хозяин,
Но уж не раз случалось замечать
Ему, как этот Кот искусно вел
Войну против мышей и крыс, какие
Выдумывал он хитрости и как
То, мертвым притворясь, висел на лапах
Вниз головой, то пудрился мукой,
То прятался в трубу, то под кадушкой
Лежал, свернувшись в ком; а потому
И слов Кота не пропустил он мимо
Ушей. И подлинно, когда он дал
Коту мешок и нарядил его
В большие сапоги, на шею Кот
Мешок надел и вышел на охоту
В такое место, где, он ведал, много
Водилось кроликов. В мешок насыпав
Трухи, его на землю положил он;
А сам вблизи как мертвый растянулся
И терпеливо ждал, чтобы какой невинный,
Неопытный в науке жизни кролик
Пожаловал к мешку покушать сладкой
Трухи, и он не долго ждал; как раз
Перед мешком его явился глупый,
Вертлявый, долгоухий кролик; он
Мешок понюхал, поморгал ноздрями,
Потом и влез в мешок; а Кот проворно
Мешок стянул снурком и без дальнейших
Приветствий гостя угостил по-свойски.
Победою довольный, во дворец
Пошел он к королю и приказал,
Чтобы о нем немедля доложили.
Велел ввести Кота в свой кабинет
Король. Вошед, он поклонился в пояс;
Потом сказал, потупив морду в землю:
«Я кролика, великий государь,
От моего принес вам господина,
Маркиза Карабаса (так он вздумал
Назвать хозяина); имеет честь
Он вашему величеству свое
Глубокое почтенье изъявить
И просит вас принять его гостинец».
«Скажи маркизу, — отвечал король,
Что я его благодарю и что
Я очень им доволен». Королю
Откланявшися, Кот пошел домой;
Когда ж он шел через дворец, то все
Вставали перед ним и жали лапу
Ему с улыбкой, потому что он
Был в кабинете принят королем
И с ним наедине (и уж, конечно,
О государственных делах) так долго
Беседовал; а Кот был так учтив,
Так обходителен, что все дивились
И думали, что жизнь свою провел
Он в лучшем обществе. Спустя немного
Отправился опять на ловлю Кот,
В густую рожь засел с своим мешком
И там поймал двух жирных перепелок.
И их немедленно он к королю,
Как прежде кролика, отнес в гостинец
От своего маркиза Карабаса.
Охотник был король до перепелок;
Опять позвать велел он в кабинет
Кота и, перепелок сам принявши,
Благодарить маркиза Карабаса
Велел особенно. И так наш Кот
Недели три-четыре к королю
От имени маркиза Карабаса
Носил и кроликов и перепелок.
Вот он однажды сведал, что король
Сбирается прогуливаться в поле
С своею дочерью (а дочь была
Красавицей, какой другой на свете
Никто не видывал) и что они
Поедут берегом реки. И он,
К хозяину поспешно прибежав,
Ему сказал: «Когда теперь меня
Послушаешься ты, то будешь разом
И счастлив и богат; вся хитрость в том,
Чтоб ты сейчас пошел купаться в реку;
Что будет после, знаю я; а ты
Сиди себе в воде, да полоскайся,
Да ни о чем не хлопочи». Такой
Совет принять маркизу Карабасу
Нетрудно было; день был жаркий; он
С охотою отправился к реке,
Влез в воду и сидел в воде по горло.
А в это время был король уж близко.
Вдруг начал Кот кричать: «Разбой! разбой!
Сюда, народ!» — «Что сделалось?» — подъехав,
Спросил король. «Маркиза Карабаса
Ограбили и бросили в реку;
Он тонет». Тут, по слову короля,
С ним бывшие придворные чины
Все кинулись ловить в воде маркиза.
А королю Кот на ухо шепнул:
«Я должен вашему величеству донесть,
Что бедный мой маркиз совсем раздет;
Разбойники все платье унесли».
(А платье сам, мошенник, спрятал в куст).
Король велел, чтобы один из бывших
С ним государственных министров снял
С себя мундир и дал его маркизу.
Министр тотчас разделся за кустом;
Маркиза же в его мундир одели,
И Кот его представил королю;
И королем он ласково был принят.
А так как он красавец был собою,
То и совсем не мудрено, что скоро
И дочери прекрасной королевской
Понравился; богатый же мундир
(Хотя на нем и не совсем в обтяжку
Сидел он, потому что брюхо было
У королевского министра) вид
Ему отличный придавал — короче,
Маркиз понравился; и сесть с собой
В коляску пригласил его король;
А сметливый наш Кот во все лопатки
Вперед бежать пустился. Вот увидел
Он на лугу широком косарей,
Сбиравших сено. Кот им закричал:
«Король проедет здесь; и если вы ему
Не скажете, что этот луг
Принадлежит маркизу Карабасу,
То он всех вас прикажет изрубить
На мелкие куски». Король, проехав,
Спросил: «Кому такой прекрасный луг
Принадлежит?» — «Маркизу Карабасу»,
Все закричали разом косари
(В такой их страх привел проворный Кот),
«Богатые луга у вас, маркиз»,
Король заметил. А маркиз, смиренный
Принявши вид, ответствовал: «Луга
Изрядные». Тем временем поспешно
Вперед ушедший Кот увидел в поле
Жнецов: они в снопы вязали рожь.
«Жнецы, — сказал он, — едет близко наш
Король. Он спросит вас: чья рожь? И если
Не скажете ему вы, что она
Принадлежит маркизу Карабасу,
То он вас всех прикажет изрубить
На мелкие куски». Король проехал.
«Кому принадлежит здесь поле?» — он
Спросил жнецов. — «Маркизу Карабасу»,
Жнецы ему с поклоном отвечали.
Король опять сказал: «Маркиз, у вас
Богатые поля». Маркиз на то
По-прежнему ответствовал смиренно:
«Изрядные». А Кот бежал вперед
И встречных всех учил, как королю
Им отвечать. Король был поражен
Богатствами маркиза Карабаса.
Вот наконец в великолепный замок
Кот прибежал. В том замке людоед
Волшебник жил, и Кот о нем уж знал
Всю подноготную; в минуту он
Смекнул, что делать: в замок смело
Вошед, он попросил у людоеда
Аудиенции; и людоед,
Приняв его, спросил: «Какую нужду
Вы, Кот, во мне имеете?» На это
Кот отвечал: «Почтенный людоед,
Давно слух носится, что будто вы
Умеете во всякий превращаться,
Какой задумаете, вид; хотел бы
Узнать я, подлинно ль такая мудрость
Дана вам? — «Это правда; сами, Кот,
Увидите». И мигом он явился
Ужасным львом с густой, косматой гривой
И острыми зубами. Кот при этом
Так струсил, что (хоть был и в сапогах)
В один прыжок под кровлей очутился.
А людоед, захохотавши, принял
Свой прежний вид и попросил Кота
К нему сойти. Спустившись с кровли, Кот
Сказал: «Хотелось бы, однако, знать мне,
Вы можете ль и в маленького зверя,
Вот, например, в мышонка, превратиться?»
«Могу, — сказал с усмешкой людоед,
Что ж тут мудреного?» И он явился
Вдруг маленьким мышонком. Кот того
И ждал; он разом: цап! и съел мышонка.
Король тем временем подъехал к замку,
Остановился и хотел узнать,
Чей был он. Кот же, рассчитавшись
С его владельцем, ждал уж у ворот,
И в пояс кланялся, и говорил:
«Не будет ли угодно, государь,
Пожаловать на перепутье в замок
К маркизу Карабасу?» — «Как, маркиз,
Спросил король, — и этот замок вам же
Принадлежит? Признаться, удивляюсь;
И будет мне приятно побывать в нем».
И приказал король своей коляске
К крыльцу подъехать; вышел из коляски;
Принцессе ж руку предложил маркиз;
И все пошли по лестнице высокой
В покои. Там в пространной галерее
Был стол накрыт и полдник приготовлен
(На этот полдник людоед позвал
Приятелей, но те, узнав, что в замке
Король был, не вошли, и все домой
Отправились). И, сев за стол роскошный,
Король велел маркизу сесть меж ним
И дочерью; и стали пировать.
Когда же в голове у короля
Вино позашумело, он маркизу
Сказал: «Хотите ли, маркиз, чтоб дочь
Мою за вас я выдал?» Честь такую
С неимоверной радостию принял
Маркиз. И свадьбу вмиг сыграли. Кот
Остался при дворе, и был в чины
Произведен, и в бархатных являлся
В дни табельные сапогах. Он бросил
Ловить мышей, а если и ловил,
То это для того, чтобы немного
Себя развлечь и сплин, который нажил
Под старость при дворе, воспоминаньем
О светлых днях минувшего рассеять.
Мальчик-с-пальчик
Жил маленький мальчик:
Был ростом он с пальчик,
Лицом был красавчик,
Как искры глазенки,
Как пух волосенки.
Он жил меж цветочков;
В тени их листочков
В жары отдыхал он;
И ночью там спал он;
С зарей просыпался,
Живой умывался
Росой, наряжался
В листочек атласный
Лилеи прекрасной;
Проворную пчелку
В свою одноколку
Из легкой скорлупки
Потом запрягал он,
И с пчелкой летал он,
И жадные губки
С ней вместе впивал он
В цветы луговые.
К нему золотые
Цикады слетались
И с ним забавлялись,
Кружась с мотыльками,
Жужжа, и порхая,
И ярко сверкая
На солнце крылами;
Ночною ж порою,
Земля покрывалась
И в небе с луною
Одна за другою
Звезда зажигалась,
На луг благовонный
С лампадой зажженной
Лазурно-блестящий
К малютке являлся
Светляк, и сбирался
К нему вкруговую
На пляску ночную
Рой эльфов летучий;
Они — как бегучий
Источник волнами
Шумели крылами,
Свивались, сплетались,
Проворно качались
На тонких былинках,
В перловых купались
На травке росинках,
Как искры сверкали
И шумно плясали
Пред ним до полночи.
Когда же на очи
Ему усыпленье,
Под пляску, под пенье
Сходило — смолкали
И вмиг исчезали
Плясуньи ночные;
Тогда под живые
Цветы угнездившись
И в сон погрузившись,
Он спал под защитой
Их кровли, омытой
Росой, до восхода
Зари лучезарной
С границы янтарной
Небесного свода.
Так милый красавчик
Жил мальчик наш с пальчик…
Нечто о привидениях
Верить или не верить привидениям? Прежде, нежели отвечать на этот вопрос, надлежит определить, что такое привидение? Я видел, значит, моим открытым глазам наяву представился предмет, подлежащий чувству зрения; мне приснилось, значит, я видел не наяву, с закрытыми глазами, предмет, не подлежащий чувству зрения; мне привиделось, значит, я видел наяву, открытыми глазами, предмет, не подлежащий чувству зрения. Итак, привидение есть вещественное явление предмета невещественного… Бывают сны наяву, которые весьма близко подходят к тому, что мы назвали привидением. Иногда еще глаза не закрылись, еще все окружающие нас предметы нам видимы, а уже сон овладел нами, и уже в сновидении, в которое мы перешли нечувствительно, совершается перед нами что-то, совсем отличное от того состояния, в котором мы были за минуту, что-то странное, всегда более или менее приводящее в ужас; и если мы проснемся, не заметив быстрого нашего перехода от бдения ко сну, и наоборот, то легко можем остаться с мыслью, что с нами случилось нечто неестественное. Вот пример: покойный А. М. Дружинин (бывший, кажется, в Москве главным директором училищ) рассказывал мне следующий замечательный случай. Я был (так говорил он) коротко знаком с доктором Берковичем. Однажды (это было зимой) он пригласил меня вместе с г-жою Перец к себе на вечер; мы провели этот вечер весьма весело, и особенно весел был сам хозяин. Пробило десять часов; жена Берковича сказала ему: «Поди посмотри, накрывают ли на стол? Пора ужинать». Дверь из гостиной вела прямо в столовую. Беркович вышел и через минуту возвратился. «Скоро ли?» — спросила жена. Он молча кивнул головою. Я посмотрел на него и увидел, что он был бледен, как полотно; веселость его пропала; во весь остаток вечера он не сказал почти ни слова. Сели за стол, отужинали. Госпожа Перец собралась ехать к себе, и Беркович пошел проводить свою гостью с крыльца. Сажая ее в карету, он попал ногами в снег, который лежал сугробами кругом подъезда (во весь день была жестокая метель); весьма вероятно, что в эту минуту он простудился. На другой день пришли мне сказать, что Беркович в постели и что он зовет меня к себе; я сам хотел его навестить, ибо меня тревожила грустная мрачность, замеченная мною в нем накануне. И вот что он мне отвечал, когда я у него спросил о ее причине: «Мне скоро умереть; я видел своими глазами смерть мою. Когда вчера я вышел из гостиной в столовую, чтобы узнать, скоро ли подадут ужин, я увидел, что стол накрыт, что на столе гроб, окруженный свечами, и что в гробу лежу я сам. Будь уверен, что вы скоро меня похороните». И действительно, Беркович через короткое время умер. Весьма вероятно, что в теле его уже был зародыш болезни; простуда развила болезнь, а болезнь с помощью воображения, испуганного призраком, произвела смерть. Но что же было этот призрак? Сон наяву, видение несущественного образа, такое же, какое бывает, когда сновидением выражается или тревожное состояние души нашей, или болезненное расстройство нашего тела. Здесь было не что иное, как сновидение в состоянии бодрствования, происшедшее от той же причины, какая по большей части производит всякое другое сновидение; здесь видение не отделено от видящего, видение без предмета; здесь нет еще привидения в том смысле, в каком мы его определили, хотя и есть в самом событии что-то необычное, естественному порядку не принадлежащее. Бывают другого рода видения наяву, видения образов, действительно от нас отдельных и кажущихся нам вне нас существующими, самобытными, хотя на самом деле они не могут иметь ни существенности, ни самобытности. К сему роду принадлежит известное видение короля шведского Карла XI. Что он видел, то было описано им самим. Этот акт скреплен подписью самого короля и двух или трех находившихся при нем свидетелей. Я читал его в немецком литературном переводе, сделанном по требованию К. П. Не имея теперь перед глазами этого перевода, я должен следовать повествованию Проспера Меримо, которое во всем главном верно, хотя Меримо, по образу и подобию своих соотечественников, не мог воздержаться, чтобы не украсить простой истины вымыслом некоторых живописных обстоятельств. Расскажу коротко и просто. В то время, когда случилось описываемое здесь происшествие, король Карл XI, знаменитый отец Карла XII, жил в старом стокгольмском дворце (новый, ныне существующий и им заложенный, еще не был построен). Этот дворец имел форму подковы: на конце одного флигеля был кабинет короля, на конце другого, окнами прямо против кабинета королевского, находилась палата государственных штатов. Было поздно, король сидел в своем кабинете перед камином, с ним, по словам Меримо, находились камергер Браге и доктор Баумгартен (в оригинальном акте названы, кажется, другие), король был задумчив и мрачен, встав с места, он начал, не говоря ни слова, ходить взад и вперед по горнице. Вдруг он остановился: он увидел, что в окнах противолежащей палаты был яркий свет, это не могло быть от луны — луна не светила, и на небе лежали тучи, это не мог быть пожар — сияние было спокойное и не имело багряности пожарной, нельзя было также подумать, что там какой-нибудь из слуг придворных ходил с факелом — от одного факела не произошло бы такого яркого, повсеместного освещения. «Видите ли? — спросил король своих собеседников. — Что это значит?» Все были изумлены, и никто не мог придумать объяснения видимому. «Велите позвать кастелана, чтобы он принес и ключ от палаты». Кастелан явился, король пошел с ним вместе через дворец, провожаемый и другими, которые несли свечи. Вступивши в пространную переднюю палаты, они увидели, что она вся была обтянута черным сукном, из-под дверей палаты яркою полосою светилось. Король приказал кастелану отворить дверь, но приметя, что он, дрожа от страха, не мог попасть ключом в замочную скважину, взял ключ из его руки и, сказав: «С нами Бог», — сам отпер двери. Он смело вошел в палату, за ним все другие. Они увидели, что палата была освещена множеством свеч и что в ней происходил совет государственных штатов. Члены молча сидели вдоль стен на банкетах, все были в трауре. Посреди палаты, кругом стола, покрытого черным сукном, заседали судьи, также одетые в траур, их президент имел перед собою раскрытую книгу. На троне, находившемся прямо против входа, лежал мертвый, покрытый порфирою, близ него был виден юноша, имевший на голове корону и в руке скипетр, с ним рядом стоял человек зрелых лет, в старинной одежде администраторов шведских, на полу между столом и троном лежали плаха и при ней топор. В ту минуту, когда король вступил в палату, президент ударил рукою по книге, по этому знаку боковая дверь отворилась, из нее вышло несколько человек благородной наружности, в богатых одеждах, но руки их были связаны на спине, за ними следовал палач. Тот, кто между ними казался главным, взглянул на труп, лежавший на троне: из раны трупа брызнула кровь, как будто в обличение убийства, и обличенный смело приблизился к плахе, положил на нее голову, палач взмахнул топор, отрубленная голова запрыгала и, перекатившись через всю палату, остановилась у ног короля: капля крови упала на одну из его туфель. До сей минуты он стоял неподвижно, смотря в безмолвном изумлении на происходящее, но тут он сделал быстро несколько шагов вперед и громко воскликнул, обратясь к тому, кто имел на себе одежду администратора: «Если ты от Бога, говори, а если от другого, исчезни». Тогда послышался голос: «Король Карл! Эта кровь не при тебе… (тут звуки сделались менее внятны) еще пять царствований… горе потомству Вазы!» Голос замолчал, и в эту минуту все образы начали, как туман, редеть и делаться прозрачнее, скоро все исчезло, осталась одна пустая палата, темно-освещенная свечами, горевшими в руках спутников Карла. Король возвратился в свой кабинет, он не мог сомневаться в существенности видения, которого неоспоримым свидетельством была капля крови, запекшаяся на его туфле. Полный еще свежего впечатления, он тут же записал со всеми подробностями то, что видел, скрепил описание своею подписью, с ним вместе подписались и все другие свидетели. Этот акт находится в государственном архиве шведском. Пять царствований прошли, и горе, произнесенное над потомством Вазы, совершилось: потомство Вазы утратило корону Швеции. А казнь убийцы, труп на троне, старый администратор и коронованный юноша прямо указывают на Анкерштрема, на застреленного им Густава III, на Карла XIII, бывшего регентом и королем, и на последнего Вазу, Густава Адольфа, своим упрямством сверженного с престола, но своим высоким характером достойного лучшей участи. Неоспоримое свидетельство утверждает действительность сего события, и все, что оно пророчествовало, совершилось; но само по себе оно навсегда останется непостижимым для нашего разума. Здесь нечто, еще не бывшее, принимает задолго до своего события существенный образ, видимый многими; и что же этот образ? Он не дух, пребывавший некогда в живом теле и продолжающий жить и являться, когда явление материальной жизни уже прекратилось. Здесь, напротив, является, видимо, образ чего-то не бывшего, а только возможного, что-то символическое приемлет характер вещественного, это дух происшествия, а не существа отдельного, цельный образ чего-то сборного, никакой личности не имеющего, это воздушная картина, соединяющая в одних рамах портреты, списанные кем-то с лиц, которых еще нет и которые когда-то будут. Наконец привидения в собственном смысле, то есть явления духов, явления, в которых существа бестелесные, самобытные произвольно представляются глазам нашим при полном действии наших чувственных органов, при полном нашем сознании, что мы действительно видим (или слышим) то, что у нас совершается перед глазами. Расскажу два случая. Предание говорит, что в XVII веке, в Дюссельдорфе, в герцогском замке совершилось великое преступление. Тогда женою герцога юлихклеве-бергского, полоумного Иоанна Вильгельма, была Якоба, принцесса баденская. Она имела сердечную привязанность к графу Мандеру, но ее выдали насильно за герцога. По наущению герцоговой сестры, Сибиллы, жестоко ненавидевшей Якобу, сия последняя была обвинена в нарушении супружеской верности, ее предали суду, заключили в темницу, но прежде нежели виновность ее (весьма, впрочем, сомнительная) могла быть доказана судом, она вдруг умерла скоропостижно, ее поспешно схоронили. Это произвело подозрение, что смерть ее была неестественная и что виновницею этой смерти была Сибилла. Теперь замок герцогов бергских, сцена этих древних ужасов, обращен в академию живописи, он — столица знаменитой Дюссельдорфской школы, в нем царствует мирный гений искусства. Но предание о давнишнем убийстве, под кровлею его совершившимся, сохранилось в народе, и не одно предание: сама преступница, казнимая гневом небесным, посещает мрачною тенью то место, которое было свидетелем ее злодействия. Одним является она видимо, другие не видят ее, а только слышат, иных каким-нибудь знаком она извещает о своем таинственном присутствии. Вот что, между прочим, случилось с живописцем Бланком (это рассказано мне одним из его академических товарищей). Он сидел за работою в длинной зале, где находится картинная галерея и где обыкновенно бывает выставка живописи, из нее с одной стороны ход на парадное крыльцо, а с другой — двери в меньшую залу академии, составляющую с другими горницами довольно длинную анфиладу. Начинало смеркаться, живописец был занят своею работою, спеша ее закончить до наступления темноты, вдруг он слышит, что двери, ведущие с крыльца в галерею, отворились, и что мимо него кто-то проходит, а кто — не видно. По шороху платья (похожему на шум от атласного шлейфа) — женщина. Она идет через галерею к зале, отворяет ее, идет далее через всю анфиладу, и слышно, как все двери одна за другою отворяются и затворяются, и наконец все утихает. Бланк остается в изумлении, предание о бродячей душе Сибиллы приходит ему на память… Но вот, пока он размышляет о том, что случилось, ему слышится, что самая дальняя дверь анфилады снова отворилась и что к следующей двери подходят… В ужасе он бросает свою работу и спешит выйти из галереи дверями, ведущими на крыльцо, дабы не встретиться со страшною гостьей. Это происшествие заставляет думать, что покойная, или беспокойная Сибилла, посещающая невидимкою прежде свое жилище, еще не износила и не скинула своего старинного атласного платья, которого шорох извещает живых о страшных прогулках мертвой. В 1841 году, когда я находился в Дюссельдорфе, профессор Зон писал портрет жены моей, каждый день в одиннадцать часов утра я приходил с женою в его рабочую, где сидение для портрета продолжалось около двух часов. Коридор, из которого ведет дверь в эту рабочую, находится в верхнем этаже академии, к нему из нижнего этажа, от парадного крыльца также идет коридор, упирающийся в узкую, довольно крутую лестницу, соединяющую средний этаж с верхним, эта лестница примыкает вверху к небольшой площадке, мимо которой надобно проходить к рабочим многих живописцев и которая составляет в верхнем коридоре пустое отделение, не имеющее никакого выхода. Однажды, идя в определенное время с женою к живописцу Зону, мы всходили по узкой лестнице: я впереди, жена за мною. Вдруг, став ногою на последнюю ступень, я увидел, что от меня что-то черное бросилось вправо и быстро исчезло в углу описанной мною выше площадки, какой оно имело образ, не знаю: перед глазами моими мелькнула черная полоса. «Что это?» — спросили мы разом, я у жены, а жена у меня. Ответа не могло быть никакого. Но жена не только что видела, она в то же время и слышала, и это обстоятельство для нее осталось особенно памятно тем, что, подошедши к лестнице и желая мне что-то сказать, она оглянулась, дабы узнать, не было ли кого в нижнем коридоре, там было пусто. Когда же она, всходя за мною по лестнице, хотела начать говорить, ей послышалось, что кто-то за нею шел и так близко, что она боялась оборотить голову, дабы лицом своим не столкнуться с лицом неучтивого своего спутника, и почти чувствовала, как нога его поспешно занимала место ее ноги при каждом ее шаге, в то же время ей слышался явственно как будто шорох от шелкового платья. На верхней ступени лестницы она вместе со мною увидела черную полосу, мелькнувшую мимо нас на площадку, когда же оглянулась, за нею не шел никто, в коридоре было по-прежнему пусто. Здесь рассказаны со всею историческою верностью одни подробности того, что с нами случилось, а что случилось, мы не знаем. Опираясь на предание, о котором тогда только в первый раз услышал я от профессора Зона, можно бы было подумать, что дух Сибиллы удостоил нас своего внимания и хотел на себя обратить наше, но в подобных случаях всего вернее не делать никаких объяснений. Другой случай. Вот что рассказывал мне о себе покойный Н. Н. Муравьев, человек необыкновенного ума, просвещенный и немало не суеверный. «Я учился в Геттингене, — так говорил мне Муравьев (не помню только, геттингенский ли университет был им назван, или другой), — между студентами был англичанин Стюарт, смешной чудак, над которым его товарищи, и я с другими, нередко шутили. Однажды он похвастал, что его нельзя ничем испугать, я побился с ним об заклад, что его испугаю, и это мне удалось; самолюбие Стюарта было сильно обижено, и он обещался мне отплатить. Прошло с тех пор довольно времени, Стюарт покинул университет, — я забыл о случившемся. Однажды после трудной работы над разрешением математической проблемы я лег довольно поздно в постель; что воображение мое не было ничем разгорячено, тому свидетель моя сухая, отрезвляющая ум работа. Было за полночь, когда я закончил ее, полная луна сияла в мои окна, в горнице был яркий свет. Против моей постели у противоположной стены находились мой рабочий стол и перед ним большие кресла, в стене, направо от стола, против окон была дверь, которую, ложась в постель, я запер ключом изнутри, в одном углу стояла моя сабля. Я скоро заснул, но спал недолго; как будто кем пробужденный, поднимаю голову, и что же вижу?.. В моих креслах, перед столом моим сидит человеческая фигура и пристально на меня смотрит. Мне тотчас в мысли пришел Стюарт и обещанное им мщение. Это ты, Стюарт, закричал я; ничуть не страшно: напрасно трудился, шутка твоя не удалась. Но мнимый Стюарт сидел неподвижно, уставив на меня темные глаза свои. Я сказал: довольно, Стюарт, поди вон, я хочу спать. Он не дал ответа и продолжал сидеть по-прежнему. Я рассердился. Говорят тебе, поди вон, не мешай мне, сказал я. Он все ни слова и все неподвижен по прежнему. Стюарт, я не шучу, в последний раз говорю тебе, поди вон, будет плохо. Так закричал я, чувствуя, к великой досаде своей, что меня от ужаса подирало по коже. Но гость мой продолжал по-прежнему пристально смотреть на меня и сидел недвижно, как мраморный. Тут в судорожном страхе я вскочил с постели, схватил свою саблю, кинулся на сидевшего и дал ему сильный удар: сабля пролетела сквозь туловище его, как будто сквозь воздух, он не пошатнулся и продолжал смотреть на меня по-прежнему. В неописанном ужасе я начал от него пятиться к моей постели, сел на нее, оперся на свою саблю и как будто околдованный сверхъестественною силою просидел всю ночь перед своим страшным гостем, который, недвижим, как холодная смерть, упирал в меня темные глаза свои и буравил ими всю мою душу. Занялось утро, он встал, медленными шагами пошел к дверям и исчез — отворил ли их, или нет, не помню, очнувшись, я подхожу к ним: они заперты изнутри. Что это было, и теперь не знаю, о Стюарте же ни прежде, ни после я не имел никакого слуха». К сему роду явлений относится в особенности наш вопрос: верить или не верить привидениям? Множество событий, достаточно засвидетельствованных, побуждают нас отвечать утвердительно, с другой стороны, невероятность самих событий, выходящих из обыкновенного порядка вещей, склоняет нас к отрицанию. Что же выбрать? Ни то ни другое… Мир духовный есть таинственный мир веры; очевидность принадлежит миру материальному: она есть достояние здешней жизни, заключенной в пределах пространства и времени, наше верховное сокровище — знание, что Бог существует и что душа бессмертна, отдано на сохранение не мелкому рабу необходимости, уму, а вере, которая есть высшее выражение человеческой свободы… Итак, не отрицая ни существования духов, ни возможности их сообщения с нами, не будем преследовать их тайны своими умствованиями, вредными, часто гибельными для нашего разума, будем с смиренною верою стоять перед опущенною завесою, будем радоваться ее трепетанием, убеждающим нас, что за нею есть жизнь, но не дерзнем и желать ее губительного расторжения: оно было для нас вероубийством. В заключение скажем о некоторых особенного рода видениях, которые составляют средину между обыкновенными сновидениями (то есть призраками, от нас не отдельными и не имеющими никакой самобытности) и настоящими привидениями (то есть призраками самобытными и от нас отдельными). Сии видения бывают двоякого рода: в одних наше близкое будущее, или то, что уже свершилось (то есть наше, еще нам неведомое, настоящее), предварительно сказывается душе нашей: сей бессловесный разговор чего-то с нашей душою мы называем предчувствием, в котором как будто прежде самого события подходит к нам его тень, чтобы нам предвозвестить его приближение и нас приготовить к его принятию. В других или совершается непосредственное сообщение душ, разрозненных пространством, соединенное с видимым образом, действующим на наши чувственные органы, или самой душе является нечто, из глубины ее непосредственно исходящее. Первые из сих видений суть просто предчувствия, как сказано выше, последние особенно принадлежат минуте смертной, минуте, в которую душа, готовая покинуть здешний мир и стоящая на пороге иного мира, полуотрешенная от тела, уже не зависит от пространства и места и действует непосредственнее, сливая там и здесь воедино. Иногда уходящая душа в исполнение данного обета возвещает свое отбытие каким-нибудь видимым знаком — здесь выражается только весть о смерти, иногда бесплотный образ милого нам человека неожиданно является перед глазами, и это явление, всегда современное минуте смертной, есть как будто последний взгляд прощальный, последний знак любви в пределах здешнего мира на свидание в жизни вечной, иногда, наконец, в вашей душе совершается нечто необычное, которое не что иное, как сама олицетворяющаяся перед нами наша смерть. О таких событиях, выходящих из обыкновенного порядка и для нас неизъяснимых, есть много рассказов, не подверженных никакому сомнению, мы ограничимся здесь описанием двух случаев. Первый из них я расскажу в двух словах: он не требует никаких объяснений. За истину повествования ручаюсь. «В Москве одна грустная мать сидела ночью над колыбелью своего больного сына: все ее внимание обращено было на страждущего младенца, и все, что не он, было в такую минуту далеко от ее сердца. Вдруг она видит, что в дверях ее горницы стоит ее родственница М. (которая в это время находилась в Лифляндии и не могла от беременности предпринять путешествие); явление было так живо, что оно победило страдание матери. «Ах, М., это ты?» — закричала она, кинувшись на встречу нежданной посетительнице. Но ее уже не было. В эту самую ночь, в этот самый час М. умерла родами в Дерпте». Вот другой случай, он имеет глубокое психологическое значение, я должен рассказать его со всеми подробностями. «Во Франкфурте-на-Майне, в смутное время первой революционной войны все вооружалось на отражение приближающейся французской армии. Некто Гофман, молодой человек, недавно обрученный с Марианною P., которую нежно любил и которая всею душою была к нему привязана, схватил, как и другие, ружье и саблю, чтобы идти на защиту города, он упал мертвый от первого неприятельского выстрела. Неожиданная весть об этом странным образом поразила невесту: услышав, что жених убит, Марианна побледнела, но она не заплакала, и никакая жалоба не сошла с языка ее, в ней в мгновение исчезла память, духовная жизнь ее вдруг остановилась, одна телесная жизнь осталась неприкосновенною. С этой поры все окружающее действовало на нее, так сказать, мимоходом, не производя в ней ни радостного, ни горестного участия, одни настоящие, материальные нужды были ей ощутительны, но все прошедшее, все былое в жизни вдруг задернулось покрывалом, о будущем же и самое понятие пропало: она не ждала ничего, и это неожидание было не следствие отчаянного горя, а просто неспособность желать, паралич, внезапно обхвативший душу, которая в ней сохранилась только для того, чтобы механически служить живому телу, как служит пружина автомату, имеющему все признаки существа живого. Состояние Марианны Р. не могло быть названо сумасшествием: в ней не было ничего расстроенного, она была тиха, смиренна, никого ничем не тревожила, но ни в ком и ни в чем не принимала участия и жила в кругу людей, как будто не примечая, что она с ними, и все, знавшие грустную причину случившейся с нею перемены, оказывали ей нежное внимание, заботились о ней, как о беспомощном, осиротевшем ребенке. Так провела Марианна более тридцати лет, в последние годы особенно привязалась она к молодой дочери хозяина того дома, в котором жила. Луиза Д. (так называлась эта девушка) навещала ее часто, и ей одной оказывала Марианна что-то похожее на дружбу. Вдруг Луиза начала примечать какую-то необыкновенную живость в Марианне, дотоль тихой и ни на что не обращавшей внимания, казалось, что ее беспрестанно тревожила какая-то мысль, для нее самой непонятная, можно было также подумать, что в ее теле работала болезнь. Со дня на день сия тревога становилась сильнее и постояннее. Однажды, когда Луиза, по обыкновению своему, принесла обед Марианне, последняя сказала ей с таинственным видом: «Знаешь ли что, Луиза?.. Он написал ко мне… Он ко мне будет…» — «Кто он?» — спросила Луиза. — «Он… он…» — отвечала та, потирая лоб и напрасно стараясь вспомнить. — «Ты знаешь… он… я жду его…» Более она не могла сказать ничего. «Я жду … он будет … он писал ко мне» — эти слова она повторила с видимым волнением, воспоминание теснилось в ее душе, но душа еще была затворена для него. Дня через три Марианна сказала Луизе: «Приходи ко мне завтра… я жду его… он будет у меня завтракать». И когда на другой день Луиза пришла, она увидела, что Марианна сидела в своем праздничном платье за накрытым столиком, глаза ее были ярки, щеки горели, она смотрела быстро на двери. Вдруг, подав знак рукою Луизе, чтобы молчала и не шевелилась, она сказала ей шепотом: «Слушай… слушай… он идет…» Вдруг глаза ее вспыхнули, руки стремительно протянулись к дверям, она вскрикнула громко: «Гофман!» — и упала мертвая на пол». Главные обстоятельства этого замечательного события рассказаны мне почти очевидцем. Оно есть один из тех случаев, в которые нам удается проникнуть взглядом за таинственную завесу, отделяющую нас от мира духовного. В ту минуту, когда эта нежная, любящая душа так неожиданно потеряла все, что было ее истинною жизнью, она как будто оторвалась от всего житейского, но разрыв ее с телом не совершился: она осталась еще, так сказать, по одному механическому сцеплению, принадлежностию жизни телесной, но все, что в ней принадлежало жизни духовной и чего главною стихиею была эта любовь, ею вполне обладавшая, вдруг с утратою предмета любви оцепенело. И пока телесная жизнь была полна, пока в составе тела не было никакого расстройства, до тех пор эта скованная, совершенно подвластная телу душа ни в чем себя не проявляла, она была узником, невидимо обитавшим в темнице тела, с одним темным самоощущением, без всякого самопознания. Вдруг начинается процесс разрушения материальной власти тела. С развитием болезни и с постепенным приближением смерти мало-помалу совершается освобождение души, в ней оживает память прошедшего, сперва смутно, потом яснее, яснее… «Он будет… я жду его… он ко мне писал…» — все еще это одни слова сквозь сон, но слова, означающие близкое пробуждение жизни… и вдруг в последнем слове, в произнесении имени, в узнании образа, давно забытого, полное воскресение жизни и с ним конечное отрешение души от тела — смерть. Что же такое смерть? Свобода, положительная свобода, свобода души: ее полное самоузнание сохранением всего, что ей дала временная жизнь и что ее здесь довершило для жизни вечной, с отпадением от нее всего, что не принадлежит ее существу, что было одним переходным, для нее испытательным и образовательным, но по своей натуре ничтожным, здешним ее достоинством.
Сказка о Иване-царевиче и Сером Волке
Давным-давно был в некотором царстве
Могучий царь, по имени Демьян
Данилович. Он царствовал премудро;
И было у него три сына: Клим
Царевич, Петр-царевич и Иван
Царевич. Да еще был у него
Прекрасный сад, и чудная росла
В саду том яблоня; всё золотые
Родились яблоки на ней. Но вдруг
В тех яблоках царевых оказался
Великий недочет; и царь Демьян
Данилович был так тем опечален,
Что похудел, лишился аппетита
И впал в бессонницу. Вот наконец,
Призвав к себе своих трех сыновей,
Он им сказал: «Сердечные друзья
И сыновья мои родные, Клим
Царевич, Петр-царевич и Иван
Царевич; должно вам теперь большую
Услугу оказать мне; в царский сад мой
Повадился таскаться ночью вор;
И золотых уж очень много яблок
Пропало; для меня ж пропажа эта
Тошнее смерти. Слушайте, друзья:
Тому из вас, кому поймать удастся
Под яблоней ночного вора, я
Отдам при жизни половину царства;
Когда ж умру, и все ему оставлю
В наследство». Сыновья, услышав то,
Что им сказал отец, уговорились
Поочередно в сад ходить, и ночь
Не спать, и вора сторожить. И первый
Пошел, как скоро ночь настала, Клим
Царевич в сад, и там залег в густую
Траву под яблоней, и с полчаса
В ней пролежал, да и заснул так крепко,
Что полдень был, когда, глаза продрав,
Он поднялся, во весь зевая рот.
И, возвратясь, царю Демьяну он
Сказал, что вор в ту ночь не приходил.
Другая ночь настала; Петр-царевич
Сел сторожить под яблонею вора;
Он целый час крепился, в темноту
Во все глаза глядел, но в темноте
Все было пусто; наконец и он,
Не одолев дремоты, повалился
В траву и захрапел на целый сад.
Давно был день, когда проснулся он.
Пришед к царю, ему донес он так же,
Как Клим-царевич, что и в эту ночь
Красть царских яблок вор не приходил.
На третью ночь отправился Иван
Царевич в сад по очереди вора
Стеречь. Под яблоней он притаился,
Сидел не шевелясь, глядел прилежно
И не дремал; и вот, когда настала
Глухая полночь, сад весь облеснуло
Как будто молнией; и что же видит
Иван-царевич? От востока быстро
Летит жар-птица, огненной звездою
Блестя и в день преобращая ночь.
Прижавшись к яблоне, Иван-царевич
Сидит, не движется, не дышит, ждет:
Что будет? Сев на яблоню, жар-птица
За дело принялась и нарвала
С десяток яблок. Тут Иван-царевич,
Тихохонько поднявшись из травы,
Схватил за хвост воровку; уронив
На землю яблоки, она рванулась
Всей силою и вырвала из рук
Царевича свой хвост и улетела;
Однако у него в руках одно
Перо осталось, и такой был блеск
От этого пера, что целый сад
Казался огненным. К царю Демьяну
Пришед, Иван-царевич доложил
Ему, что вор нашелся и что этот
Вор был не человек, а птица; в знак же,
Что правду он сказал, Иван-царевич
Почтительно царю Демьяну подал
Перо, которое он из хвоста
У вора вырвал. С радости отец
Его расцеловал. С тех пор не стали
Красть яблок золотых, и царь Демьян
Развеселился, пополнел и начал
По-прежнему есть, пить и спать. Но в нем
Желанье сильное зажглось: добыть
Воровку яблок, чудную жар-птицу.
Призвав к себе двух старших сыновей,
«Друзья мои, — сказал он, — Клим-царевич
И Петр-царевич, вам уже давно
Пора людей увидеть и себя
Им показать. С моим благословеньем
И с помощью господней поезжайте
На подвиги и наживите честь
Себе и славу; мне ж, царю, достаньте
Жар-птицу; кто из вас ее достанет,
Тому при жизни я отдам полцарства.
А после смерти все ему оставлю
В наследство». Поклонясь царю, немедля
Царевичи отправились в дорогу.
Немного времени спустя пришел
К царю Иван-царевич и сказал:
«Родитель мой, великий государь
Демьян Данилович, позволь мне ехать
За братьями; и мне пора людей
Увидеть, и себя им показать,
И честь себе нажить от них и славу.
Да и тебе, царю, я угодить
Желал бы, для тебя достав жар-птицу.
Родительское мне благословенье
Дай и позволь пуститься в путь мой с богом».
На это царь сказал: «Иван-царевич,
Еще ты молод, погоди; твоя
Пора придет; теперь же ты меня
Не покидай; я стар, уж мне недолго
На свете жить; а если я один
Умру, то на кого покину свой
Народ и царство?» Но Иван-царевич
Был так упрям, что напоследок царь
И нехотя его благословил.
И в путь отправился Иван-царевич;
И ехал, ехал, и приехал к месту,
Где разделялася дорога на три.
Он на распутье том увидел столб,
А на столбе такую надпись: «Кто
Поедет прямо, будет всю дорогу
И голоден и холоден; кто вправо
Поедет, будет жив, да конь его
Умрет, а влево кто поедет, сам
Умрет, да конь его жив будет». Вправо,
Подумавши, поворотить решился
Иван-царевич. Он недолго ехал;
Вдруг выбежал из леса Серый Волк
И кинулся свирепо на коня;
И не успел Иван-царевич взяться
За меч, как был уж конь заеден,
И Серый Волк пропал. Иван-царевич,
Повесив голову, пошел тихонько
Пешком; но шел недолго; перед ним
По-прежнему явился Серый Волк
И человечьим голосом сказал:
«Мне жаль, Иван-царевич, мой сердечный,
Что твоего я доброго коня
Заел, но ты ведь сам, конечно, видел,
Что на столбе написано; тому
Так следовало быть; однако ж ты
Свою печаль забудь и на меня
Садись; тебе я верою и правдой
Служить отныне буду. Ну, скажи же,
Куда теперь ты едешь и зачем?»
И Серому Иван-царевич Волку
Все рассказал. А Серый Волк ему
Ответствовал: «Где отыскать жар-птицу,
Я знаю; ну, садися на меня,
Иван-царевич, и поедем с богом».
И Серый Волк быстрее всякой птицы
Помчался с седоком, и с ним он в полночь
У каменной стены остановился.
«Приехали, Иван-царевич! — Волк
Сказал, — но слушай, в клетке золотой
За этою оградою висит
Жар-птица; ты ее из клетки
Достань тихонько, клетки же отнюдь
Не трогай: попадешь в беду». Иван
Царевич перелез через ограду;
За ней в саду увидел он жар-птицу
В богатой клетке золотой, и сад
Был освещен, как будто солнцем. Вынув
Из клетки золотой жар-птицу, он
Подумал: «В чем же мне ее везти?»
И, позабыв, что Серый Волк ему
Советовал, взял клетку; но отвсюду
Проведены к ней были струны; громкий
Поднялся звон, и сторожа проснулись,
И в сад сбежались, и в саду Ивана
Царевича схватили, и к царю
Представили, а царь (он назывался
Далматом) так сказал: «Откуда ты?
И кто ты?» — «Я Иван-царевич; мой
Отец, Демьян Данилович, владеет
Великим, сильным государством; ваша
Жар-птица по ночам летать в наш сад
Повадилась, чтоб золотые красть
Там яблоки: за ней меня послал
Родитель мой, великий государь
Демьян Данилович». На это царь
Далмат сказал: «Царевич ты иль нет,
Того не знаю; но если правду
Сказал ты, то не царским ремеслом
Ты промышляешь; мог бы прямо мне
Сказать: отдай мне, царь Далмат, жар-птицу,
И я тебе ее руками б отдал
Во уважение того, что царь
Демьян Данилович, столь знаменитый
Своей премудростью, тебе отец.
Но слушай, я тебе мою жар-птицу
Охотно уступлю, когда ты сам
Достанешь мне коня Золотогрива;
Принадлежит могучему царю
Афрону он. За тридевять земель
Ты в тридесятое отправься царство
И у могучего царя Афрона
Мне выпроси коня Золотогрива
Иль хитростью какой его достань.
Когда ж ко мне с конем не возвратишься,
То по всему расславлю свету я,
Что ты не царский сын, а вор; и будет
Тогда тебе великий срам и стыд».
Повесив голову, Иван-царевич
Пошел туда, где был им Серый Волк
Оставлен. Серый Волк ему сказал:
«Напрасно же меня, Иван-царевич,
Ты не послушался; но пособить
Уж нечем; будь вперед умней; поедем
За тридевять земель к царю Афрону».
И Серый Волк быстрее всякой птицы
Помчался с седоком; и к ночи в царство
Царя Афрона прибыли они
И у дверей конюшни царской там
Остановились. «Ну, Иван-царевич,
Послушай, — Серый Волк сказал, — войди
В конюшню; конюха спят крепко; ты
Легко из стойла выведешь коня
Золотогрива; только не бери
Его уздечки; снова попадешь в беду».
В конюшню царскую Иван-царевич
Вошел и вывел он коня из стойла;
Но на беду, взглянувши на уздечку,
Прельстился ею так, что позабыл
Совсем о том, что Серый Волк сказал,
И снял с гвоздя уздечку. Но и к ней
Проведены отвсюду были струны;
Все зазвенело; конюха вскочили;
И был с конем Иван-царевич пойман,
И привели его к царю Афрону.
А царь Афрон спросил сурово: «Кто ты?»
Ему Иван-царевич то ж в ответ
Сказал, что и царю Далмату. Царь
Афрон ответствовал: «Хороший ты
Царевич! Так ли должно поступать
Царевичам? И царское ли дело
Шататься по ночам и воровать
Коней? С тебя я буйную бы мог
Снять голову; но молодость твою
Мне жалко погубить; да и коня
Золотогрива дать я соглашусь,
Лишь поезжай за тридевять земель
Ты в тридесятое отсюда царство
Да привези оттуда мне царевну
Прекрасную Елену, дочь царя
Могучего Касима; если ж мне
Ее не привезешь, то я везде расславлю,
Что ты ночной бродяга, плут и вор».
Опять, повесив голову, пошел
Туда Иван-царевич, где его
Ждал Серый Волк. И Серый Волк сказал:
«Ой ты, Иван-царевич! Если б я
Тебя так не любил, здесь моего бы
И духу не было. Ну, полно охать,
Садися на меня, поедем с богом
За тридевять земель к царю Касиму;
Теперь мое, а не твое уж дело».
И Серый Волк опять скакать с Иваном
Царевичем пустился. Вот они
Проехали уж тридевять земель,
И вот они уж в тридесятом царстве;
И Серый Волк, ссадив с себя Ивана
Царевича, сказал: «Недалеко
Отсюда царский сад; туда один
Пойду я; ты ж меня дождись под этим
Зеленым дубом». Серый Волк пошел,
И перелез через ограду сада,
И закопался в куст, и там лежал
Не шевелясь. Прекрасная Елена
Касимовна — с ней красные девицы,
И мамушки, и нянюшки — пошла
Прогуливаться в сад; а Серый Волк
Того и ждал: приметив, что царевна,
От прочих отделяся, шла одна,
Он выскочил из-под куста, схватил
Царевну, за спину ее свою
Закинул и давай бог ноги. Страшный
Крик подняли и красные девицы,
И мамушки, и нянюшки; и весь
Сбежался двор, министры, камергеры
И генералы; царь велел собрать
Охотников и всех спустить своих
Собак борзых и гончих — все напрасно:
Уж Серый Волк с царевной и с Иваном
Царевичем был далеко, и след
Давно простыл; царевна же лежала
Без всякого движенья у Ивана
Царевича в руках (так Серый Волк
Ее, сердечную, перепугал).
Вот понемногу начала она
Входить в себя, пошевелилась, глазки
Прекрасные открыла и, совсем
Очнувшись, подняла их на Ивана
Царевича и покраснела вся,
Как роза алая, и с ней Иван
Царевич покраснел, и в этот миг
Она и он друг друга полюбили
Так сильно, что ни в сказке рассказать,
Ни описать пером того не можно.
И пал в глубокую печаль Иван
Царевич: крепко, крепко не хотелось
С царевною Еленою ему
Расстаться и отдать ее царю
Афрону; да и ей самой то было
Страшнее смерти. Серый Волк, заметив
Их горе, так сказал: «Иван-царевич,
Изволишь ты кручиниться напрасно;
Я помогу твоей кручине: это
Не служба — службишка; прямая служба
Ждет впереди». И вот они уж в царстве
Царя Афрона. Серый Волк сказал:
«Иван-царевич, здесь должны умненько
Мы поступить: я превращусь в царевну;
А ты со мной явись к царю Афрону.
Меня ему отдай и, получив
Коня Золотогрива, поезжай вперед
С Еленою Касимовной; меня вы
Дождитесь в скрытном месте; ждать же вам
Не будет скучно». Тут, ударясь оземь,
Стал Серый Волк царевною Еленой
Касимовной. Иван-царевич, сдав
Его с рук на руки царю Афрону
И получив коня Золотогрива,
На том коне стрелой пустился в лес,
Где настоящая его ждала
Царевна. Во дворце ж царя Афрона
Тем временем готовилася свадьба:
И в тот же день с невестой царь к венцу
Пошел; когда же их перевенчали
И молодой был должен молодую
Поцеловать, губами царь Афрон
С шершавою столкнулся волчьей мордой,
И эта морда за нос укусила
Царя, и не жену перед собой
Красавицу, а волка царь Афрон
Увидел; Серый Волк недолго стал
Тут церемониться: он сбил хвостом
Царя Афрона с ног и прянул к двери.
Все принялись кричать: «Держи, держи!
Лови, лови!» Куда ты! Уж Ивана
Царевича с царевною Еленой
Давно догнал проворный Серый Волк;
И уж, сошед с коня Золотогрива,
Иван-царевич пересел на Волка,
И уж вперед они опять, как вихри,
Летели. Вот приехали и в царство
Далматово они. И Серый Волк
Сказал: «В коня Золотогрива
Я превращусь, а ты, Иван-царевич,
Меня отдав царю и взяв жар-птицу,
По-прежнему с царевною Еленой
Ступай вперед; я скоро догоню вас».
Так все и сделалось, как Волк устроил.
Немедленно велел Золотогрива
Царь оседлать, и выехал на нем
Он с свитою придворной на охоту;
И впереди у всех он поскакал
За зайцем; все придворные кричали:
«Как молодецки скачет царь Далмат!»
Но вдруг из-под него на всем скаку
Юркнул шершавый волк, и царь Далмат,
Перекувырнувшись с его спины,
Вмиг очутился головою вниз,
Ногами вверх, и, по плеча ушедши
В распаханную землю, упирался
В нее руками, и, напрасно силясь
Освободиться, в воздухе болтал
Ногами; вся к нему тут свита
Скакать пустилася; освободили
Царя; потом все принялися громко
Кричать: «Лови, лови! Трави, трави!»
Но было некого травить; на Волке
Уже по-прежнему сидел Иван
Царевич; на коне ж Золотогриве
Царевна, и под ней Золотогрив
Гордился и плясал; не торопясь,
Большой дорогою они шажком
Тихонько ехали; и мало ль, долго ль
Их длилася дорога — наконец
Они доехали до места, где Иван
Царевич Серым Волком в первый раз
Был встречен; и еще лежали там
Его коня белеющие кости;
И Серый Волк, вздохнув, сказал Ивану
Царевичу: «Теперь, Иван-царевич,
Пришла пора друг друга нам покинуть;
Я верою и правдою доныне
Тебе служил, и ласкою твоею
Доволен, и, покуда жив, тебя
Не позабуду; здесь же на прощанье
Хочу тебе совет полезный дать:
Будь осторожен, люди злы; и братьям
Родным не верь. Молю усердно бога,
Чтоб ты домой доехал без беды
И чтоб меня обрадовал приятным
Известьем о себе. Прости, Иван
Царевич». С этим словом Волк исчез.
Погоревав о нем, Иван-царевич,
С царевною Еленой на седле,
С жар-птицей в клетке за плечами, дале
Поехал на коне Золотогриве,
И ехали они дня три, четыре;
И вот, подъехавши к границе царства,
Где властвовал премудрый царь Демьян
Данилович, увидели богатый
Шатер, разбитый на лугу зеленом;
И из шатра к ним вышли… кто же? Клим
И Петр царевичи. Иван-царевич
Был встречею такою несказанно
Обрадован; а братьям в сердце зависть
Змеей вползла, когда они жар-птицу
С царевною Еленой у Ивана
Царевича увидели в руках:
Была им мысль несносна показаться
Без ничего к отцу, тогда как брат
Меньшой воротится к нему с жар-птицей,
С прекрасною невестой и с конем
Золотогривом и еще получит
Полцарства по приезде; а когда
Отец умрет, и все возьмет в наследство.
И вот они замыслили злодейство:
Вид дружеский принявши, пригласили
Они в шатер свой отдохнуть Ивана
Царевича с царевною Еленой
Прекрасною. Без подозренья оба
Вошли в шатер. Иван-царевич, долгой
Дорогой утомленный, лег и скоро
Заснул глубоким сном; того и ждали
Злодеи братья: мигом острый меч
Ему они вонзили в грудь, и в поле
Его оставили, и, взяв царевну,
Жар-птицу и коня Золотогрива,
Как добрые, отправилися в путь.
А между тем, недвижим, бездыханен,
Облитый кровью, на поле широком
Лежал Иван-царевич. Так прошел
Весь день; уже склоняться начинало
На запад солнце; поле было пусто;
И уж над мертвым с черным вороненком
Носился, каркая и распустивши
Широко крылья, хищный ворон. Вдруг,
Откуда ни возьмись, явился Серый
Волк: он, беду великую почуяв,
На помощь подоспел; еще б минута,
И было б поздно. Угадав, какой
Был умысел у ворона, он дал
Ему на мертвое спуститься тело;
И только тот спустился, разом цап
Его за хвост; закаркал старый ворон.
«Пусти меня на волю. Серый Волк,
Кричал он. «Не пущу, — тот отвечал,
Пока не принесет твой вороненок
Живой и мертвой мне воды!» И ворон
Велел лететь скорее вороненку
За мертвою и за живой водою.
Сын полетел, а Серый Волк, отца
Порядком скомкав, с ним весьма учтиво
Стал разговаривать, и старый ворон
Довольно мог ему порассказать
О том, что он видал в свой долгий век
Меж птиц и меж людей. И слушал
Его с большим вниманьем Серый Волк
И мудрости его необычайной
Дивился, но, однако, все за хвост
Его держал и иногда, чтоб он
Не забывался, мял его легонько
В когтистых лапах. Солнце село; ночь
Настала и прошла; и занялась
Заря, когда с живой водой и мертвой
В двух пузырьках проворный вороненок
Явился. Серый Волк взял пузырьки
И ворона-отца пустил на волю.
Потом он с пузырьками подошел
К лежавшему недвижимо Ивану
Царевичу: сперва его он мертвой
Водою вспрыснул — и в минуту рана
Его закрылася, окостенелость
Пропала в мертвых членах, заиграл
Румянец на щеках; его он вспрыснул
Живой водой — и он открыл глаза,
Пошевелился, потянулся, встал
И молвил: «Как же долго проспал я!»
«И вечно бы тебе здесь спать, Иван
Царевич, — Серый Волк сказал, — когда б
Не я; теперь тебе прямую службу
Я отслужил; но эта служба, знай,
Последняя; отныне о себе
Заботься сам. А от меня прими
Совет и поступи, как я тебе скажу.
Твоих злодеев братьев нет уж боле
На свете; им могучий чародей
Кощей бессмертный голову обоим
Свернул, и этот чародей навел
На ваше царство сон; и твой родитель,
И подданные все его теперь
Непробудимо спят; твою ж царевну
С жар-птицей и конем Золотогривом
Похитил вор Кощей; все трое
Заключены в его волшебном замке.
Но ты, Иван-царевич, за свою
Невесту ничего не бойся; злой
Кощей над нею власти никакой
Иметь не может: сильный талисман
Есть у царевны; выйти ж ей из замка
Нельзя; ее избавит только смерть
Кощеева; а как найти ту смерть, и я
Того не ведаю; об этом Баба
Яга одна сказать лишь может. Ты,
Иван-царевич, должен эту Бабу
Ягу найти; она в дремучем, темном лесе,
В седом, глухом бору живет в избушке.
На курьих ножках; в этот лес еще
Никто следа не пролагал; в него
Ни дикий зверь не заходил, ни птица
Не залетала. Разъезжает Баба
Яга по целой поднебесной в ступе,
Пестом железным погоняет, след
Метлою заметает. От нее
Одной узнаешь ты, Иван-царевич,
Как смерть Кощееву тебе достать.
А я тебе скажу, где ты найдешь
Коня, который привезет тебя
Прямой дорогой в лес дремучий к Бабе
Яге. Ступай отсюда на восток;
Придешь на луг зеленый; посреди
Его растут три дуба; меж дубами
В земле чугунная зарыта дверь
С кольцом; за то кольцо ты подыми
Ту дверь и вниз по лестнице сойди;
Там за двенадцатью дверями заперт
Конь богатырский; сам из подземелья
К тебе он выбежит; того коня
Возьми и с богом поезжай; с дороги
Он не собьется. Ну, теперь прости,
Иван-царевич; если бог велит
С тобой нам свидеться, то это будет
Не иначе, как у тебя на свадьбе».
И Серый Волк помчался к лесу; вслед
За ним смотрел Иван-царевич с грустью;
Волк, к лесу подбежавши, обернулся,
В последний раз махнул издалека
Хвостом и скрылся. А Иван-царевич,
Оборотившись на восток лицом,
Пошел вперед. Идет он день, идет
Другой; на третий он приходит к лугу
Зеленому; на том лугу три дуба
Растут; меж тех дубов находит он
Чугунную с кольцом железным дверь;
Он подымает дверь; под тою дверью
Крутая лестница; по ней он вниз
Спускается, и перед ним внизу
Другая дверь, чугунная ж, и крепко
Она замком висячим заперта.
И вдруг он слышит, конь заржал; и ржанье
Так было сильно, что с петлей сорвавшись,
Дверь наземь рухнула с ужасным стуком;
И видит он, что вместе с ней упало
Еще одиннадцать дверей чугунных.
За этими чугунными дверями
Давным-давно конь богатырский заперт
Был колдуном. Иван-царевич свистнул;
Почуяв седока, на молодецкий
Свист богатырский конь из стойла прянул
И прибежал, легок, могуч, красив,
Глаза как звезды, пламенные ноздри,
Как туча грива, словом, конь не конь,
А чудо. Чтоб узнать, каков он силой,
Иван-царевич по спине его
Повел рукой, и под рукой могучей
Конь захрапел и сильно пошатнулся,
Но устоял, копыта втиснув в землю;
И человечьим голосом Ивану
Царевичу сказал он: «Добрый витязь,
Иван-царевич, мне такой, как ты,
Седок и надобен; готов тебе
Я верою и правдою служить;
Садися на меня, и с богом в путь наш
Отправимся; на свете все дороги
Я знаю; только прикажи, куда
Тебя везти, туда и привезу».
Иван-царевич в двух словах коню
Все объяснил и, севши на него,
Прикрикнул. И взвился могучий конь,
От радости заржавши, на дыбы;
Бьет по крутым бедрам его седок;
И конь бежит, под ним земля дрожит;
Несется выше он дерев стоячих,
Несется ниже облаков ходячих,
И прядает через широкий дол,
И застилает узкий дол хвостом,
И грудью все заграды пробивает,
Летя стрелой и легкими ногами
Былиночки к земле не пригибая,
Пылиночки с земли не подымая.
Но, так скакав день целый, наконец
Конь утомился, пот с него бежал
Ручьями, весь был окружен, как дымом,
Горячим паром он. Иван-царевич,
Чтоб дать ему вздохнуть, поехал шагом;
Уж было под вечер; широким полем
Иван-царевич ехал и прекрасным
Закатом солнца любовался. Вдруг
Он слышит дикий крик; глядит… и что же?
Два Лешая дерутся на дороге,
Кусаются, брыкаются, друг друга
Рогами тычут. К ним Иван-царевич
Подъехавши, спросил: «За что у вас,
Ребята, дело стало?» — «Вот за что,
Сказал один. — Три клада нам достались:
Драчун-дубинка, скатерть-самобранка
Да шапка-невидимка — нас же двое;
Как поровну нам разделить? Мы
заспорили, и вышла драка; ты
Разумный человек; подай совет нам,
Как поступить?» — «А вот как, — им Иван
Царевич отвечал. — Пущу стрелу,
А вы за ней бегите; с места ж, где
Она на землю упадет, обратно
Пуститесь взапуски ко мне; кто первый
Здесь будет, тот возьмет себе на выбор
Два клада; а другому взять один.
Согласны ль вы?» — «Согласны», — закричали
Рогатые; и стали рядом. Лук
Тугой свой натянув, пустил стрелу
Иван-царевич: Лешие за ней
Помчались, выпуча глаза, оставив
На месте скатерть, шапку и дубинку.
Тогда Иван-царевич, взяв под мышку
И скатерть и дубинку, на себя
Надел спокойно шапку-невидимку,
Стал невидим и сам и конь и дале
Поехал, глупым Лешаям оставив
На произвол, начать ли снова драку
Иль помириться. Богатырский конь
Поспел еще до захожденья солнца
В дремучий лес, где обитала Баба
Яга. И, въехав в лес, Иван-царевич
Дивится древности его огромных
Дубов и сосен, тускло освещенных
Зарей вечернею; и все в нем тихо:
Деревья все как сонные стоят,
Не колыхнется лист, не шевельнется
Былинка; нет живого ничего
В безмолвной глубине лесной, ни птицы
Между ветвей, ни в травке червяка;
Лишь слышится в молчанье повсеместном
Гремучий топот конский. Наконец
Иван-царевич выехал к избушке
На курьих ножках. Он сказал: «Избушка,
Избушка, к лесу стань задом, ко мне
Стань передом». И перед ним избушка
Перевернулась; он в нее вошел;
В дверях остановясь, перекрестился
На все четыре стороны, потом,
Как должно, поклонился и, глазами
Избушку всю окинувши, увидел,
Что на полу ее лежала Баба
Яга, уперши ноги в потолок
И в угол голову. Услышав стук
В дверях, она сказала: «Фу! фу! фу!
Какое диво! Русского здесь духу
До этих пор не слыхано слыхом,
Не видано видом, а нынче русский
Дух уж в очах свершается. Зачем
Пожаловал сюда, Иван-царевич?
Неволею или волею? Доныне
Здесь ни дубравный зверь не проходил,
Ни птица легкая не пролетала,
Ни богатырь лихой не проезжал;
Тебя как бог сюда занес, Иван
Царевич?» — «Ах, безмозглая ты ведьма!
Сказал Иван-царевич Бабе
Яге. — Сначала накорми, напой
Меня ты, молодца, да постели
Постелю мне, да выспаться мне дай,
Потом расспрашивай». И тотчас Баба
Яга, поднявшись на ноги, Ивана
Царевича как следует обмыла
И выпарила в бане, накормила
И напоила, да и тотчас спать
В постелю уложила, так примолвив:
«Спи, добрый витязь; утро мудренее,
Чем вечер; здесь теперь спокойно
Ты отдохнешь; нужду ж свою расскажешь
Мне завтра; я, как знаю, помогу».
Иван-царевич, богу помолясь,
В постелю лег и скоро сном глубоким
Заснул и проспал до полудня. Вставши,
Умывшися, одевшися, он Бабе
Яге подробно рассказал, зачем
Заехал к ней в дремучий лес; и Баба
Яга ему ответствовала так:
«Ах! добрый молодец Иван-царевич,
Затеял ты нешуточное дело;
Но не кручинься, все уладим с богом;
Я научу, как смерть тебе Кощея
Бессмертного достать; изволь меня
послушать; на море на Окияне,
На острове великом на Буяне
Есть старый дуб; под этим старым дубом
Зарыт сундук, окованный железом;
В том сундуке лежит пушистый заяц;
В том зайце утка серая сидит;
А в утке той яйцо; в яйце же смерть
Кощеева. Ты то яйцо возьми
И с ним ступай к Кощею, а когда
В его приедешь замок, то увидишь,
Что змей двенадцатиголовый вход
В тот замок стережет; ты с этим змеем
Не думай драться, у тебя на то
Дубинка есть; она его уймет.
А ты, надевши шапку-невидимку,
Иди прямой дорогою к Кощею
Бессмертному; в минуту он издохнет,
Как скоро ты при нем яйцо раздавишь,
Смотри лишь не забудь, когда назад
Поедешь, взять и гусли-самогуды:
Лишь их игрою только твой родитель
Демьян Данилович и все его
Заснувшее с ним вместе государство
Пробуждены быть могут. Ну, теперь
Прости, Иван-царевич; бог с тобою;
Твой добрый конь найдет дорогу сам;
Когда ж свершишь опасный подвиг свой,
То и меня, старуху, помяни
Не лихом, а добром». Иван-царевич,
Простившись с Бабою Ягою, сел
На доброго коня, перекрестился,
По молодецки свистнул, конь помчался,
И скоро лес дремучий за Иваном
Царевичем пропал в дали, и скоро
Мелькнуло впереди чертою синей
На крае неба море Окиян.
Вот прискакал и к морю Окияну
Иван-царевич. Осмотрясь, он видит,
Что у моря лежит рыбачий невод
И что в том неводе морская щука
Трепещется. И вдруг ему та щука
По-человечьи говорит: «Иван
Царевич, вынь из невода меня
И в море брось; тебе я пригожуся».
Иван-царевич тотчас просьбу щуки
Исполнил, и она, хлестнув хвостом
В знак благодарности, исчезла в море.
А на море глядит Иван-царевич
В недоумении; на самом крае,
Где небо с ним как будто бы слилося,
Он видит, длинной полосою остров
Буян чернеет; он и недалек;
Но кто туда перевезет? Вдруг конь
Заговорил: «О чем, Иван-царевич,
Задумался? О том ли, как добраться
Нам до Буяна острова? Да что
За трудность? Я тебе корабль; сиди
На мне, да крепче за меня держись,
Да не робей, и духом доплывем».
И в гриву конскую Иван-царевич
Рукою впутался, крутые бедра
Коня ногами крепко стиснул; конь
Рассвирепел и, расскакавшись, прянул
С крутого берега в морскую бездну;
На миг и он и всадник в глубине
Пропали; вдруг раздвинулася с шумом
Морская зыбь, и вынырнул могучий
Конь из нее с отважным седоком;
И начал конь копытами и грудью
Бить по водам и волны пробивать,
И вкруг него кипела, волновалась,
И пенилась, и брызгами взлетала
Морская зыбь, и сильными прыжками,
Под крепкие копыта загребая
Кругом ревущую волну, как легкий
На парусах корабль с попутным ветром,
Вперед стремился конь, и длинный след
Шипящею за ним бежал змеею;
И скоро он до острова Буяна
Доплыл и на берег его отлогий
Из моря выбежал, покрытый пеной.
Не стал Иван-царевич медлить; он,
Коня пустив по шелковому лугу
Ходить, гулять и траву медовую
Щипать, пошел поспешным шагом к дубу,
Который рос у берега морского
На высоте муравчатого холма.
И, к дубу подошед, Иван-царевич
Его шатнул рукою богатырской,
Но крепкий дуб не пошатнулся; он
Опять его шатнул — дуб скрипнул; он
Еще шатнул его и посильнее,
Дуб покачнулся, и под ним коренья
Зашевелили землю; тут Иван-царевич
Всей силою рванул его — и с треском
Он повалился, из земли коренья
Со всех сторон, как змеи, поднялися,
И там, где ими дуб впивался в землю,
Глубокая открылась яма. В ней
Иван-царевич кованый сундук
Увидел; тотчас тот сундук из ямы
Он вытащил, висячий сбил замок,
Взял за уши лежавшего там зайца
И разорвал; но только лишь успел
Он зайца разорвать, как из него
Вдруг выпорхнула утка; быстро
Она взвилась и полетела к морю;
В нее пустил стрелу Иван-царевич,
И метко так, что пронизал ее
Насквозь; закрякав, кувырнулась утка;
И из нее вдруг выпало яйцо
И прямо в море; и пошло, как ключ,
Ко дну. Иван-царевич ахнул; вдруг,
Откуда ни возьмись, морская щука
Сверкнула на воде, потом юркнула,
Хлестнув хвостом, на дно, потом опять
Всплыла и, к берегу с яйцом во рту
Тихохонько приближась, на песке
Яйцо оставила, потом сказала:
«Ты видишь сам теперь, Иван-царевич,
Что я тебе в час нужный пригодилась».
С сим словом щука уплыла. Иван
Царевич взял яйцо; и конь могучий
С Буяна острова на твердый берег
Его обратно перенес. И дале
Конь поскакал и скоро прискакал
К крутой горе, на высоте которой
Кощеев замок был; ее подошва
Обведена была стеной железной;
А у ворот железной той стены
Двенадцатиголовый змей лежал;
И из его двенадцати голов
Всегда шесть спали, шесть не спали, днем
И ночью по два раза для надзора
Сменяясь; а в виду ворот железных
Никто и вдалеке остановиться
Не смел; змей подымался, и от зуб
Его уж не было спасенья — он
Был невредим и только сам себя
Мог умертвить: чужая ж сила сладить
С ним никакая не могла. Но конь
Был осторожен; он подвез Ивана
Царевича к горе со стороны,
Противной воротам, в которых змей
Лежал и караулил; потихоньку
Иван-царевич в шапке-невидимке
Подъехал к змею; шесть его голов
Во все глаза по сторонам глядели,
Разинув рты, оскалив зубы; шесть
Других голов на вытянутых шеях
Лежали на земле, не шевелясь,
И, сном объятые, храпели. Тут
Иван-царевич, подтолкнув дубинку,
Висевшую спокойно на седле,
Шепнул ей: «Начинай!» Не стала долго
Дубинка думать, тотчас прыг с седла,
На змея кинулась и ну его
По головам и спящим и неспящим
Гвоздить. Он зашипел, озлился, начал
Туда, сюда бросаться; а дубинка
Его себе колотит да колотит;
Лишь только он одну разинет пасть,
Чтобы ее схватить — ан нет, прошу
Не торопиться, уж она
Ему другую чешет морду; все он
Двенадцать ртов откроет, чтоб ее
Поймать, — она по всем его зубам,
Оскаленным как будто напоказ,
Гуляет и все зубы чистит; взвыв
И все носы наморщив, он зажмет
Все рты и лапами схватить дубинку
Попробует — она тогда его
Честит по всем двенадцати затылкам;
Змей в исступлении, как одурелый,
Кидался, выл, кувыркался, от злости
Дышал огнем, грыз землю — все напрасно!
Не торопясь, отчетливо, спокойно,
Без промахов, над ним свою дубинка
Работу продолжает и его,
Как на току усердный цеп, молотит;
Змей наконец озлился так, что начал
Грызть самого себя и, когти в грудь
Себе вдруг запустив, рванул так сильно,
Что разорвался надвое и, с визгом
На землю грянувшись, издох. Дубинка
Работу и над мертвым продолжать
Свою, как над живым, хотела; но
Иван-царевич ей сказал: «Довольно!»
И вмиг она, как будто не бывала
Ни в чем, повисла на седле. Иван
Царевич, у ворот коня оставив
И разостлавши скатерть-самобранку
У ног его, чтоб мог усталый конь
Наесться и напиться вдоволь, сам
Пошел, покрытый шапкой-невидимкой,
С дубинкою на всякий случай и с яйцом
В Кощеев замок. Трудновато было
Карабкаться ему на верх горы;
Вот, наконец, добрался и до замка
Кощеева Иван-царевич. Вдруг
Он слышит, что в саду недалеко
Играют гусли-самогуды; в сад
Вошедши, в самом деле он увидел,
Что гусли на дубу висели и играли
И что под дубом тем сама Елена
Прекрасная сидела, погрузившись
В раздумье. Шапку-невидимку снявши,
Он тотчас ей явился и рукою
Знак подал, чтоб она молчала. Ей
Потом он на ухо шепнул: «Я смерть
Кощееву принес; ты подожди
Меня на этом месте; я с ним скоро
Управлюся и возвращусь; и мы
Немедленно уедем». Тут Иван
Царевич, снова шапку-невидимку
Надев, хотел идти искать Кощея
Бессмертного в его волшебном замке,
Но он и сам пожаловал. Приближаясь,
Он стал перед царевною Еленой
Прекрасною и начал попрекать ей
Ее печаль и говорить: «Иван
Царевич твой к тебе уж не придет;
Его уж нам не воскресить. Но чем же
Я не жених тебе, скажи сама,
Прекрасная моя царевна? Полно ж
Упрямиться, упрямство не поможет;
Из рук моих оно тебя не вырвет;
Уж я…» Дубинке тут шепнул Иван
Царевич: «Начинай!» И принялась
Она трепать Кощею спину. С криком,
Как бешеный, коверкаться и прыгать
Он начал, а Иван-царевич, шапки
Не сняв, стал приговаривать: «Прибавь,
Прибавь, дубинка; поделом ему,
Собаке, не воруй чужих невест;
Не докучай своей волчьей харей
И глупым сватовством своим прекрасным
Царевнам; злого сна не наводи
На царства! Крепче бей его, дубинка!»
«Да где ты! Покажись! — кричал Кощей
Перекувырнулся и околел.
Иван-царевич из саду с царевной
Еленою прекрасной вышел, взять
Не позабывши гусли-самогуды,
Жар-птицу и коня Золотогрива.
Когда ж они с крутой горы спустились
И, севши на коней, в обратный путь
Поехали, гора, ужасно затрещав,
Упала с замком, и на месте том
Явилось озеро, и долго черный
Над ним клубился дым, распространяясь
По всей окрестности с великим смрадом.
Тем временем Иван-царевич, дав
Коням на волю их везти, как им
Самим хотелось, весело с прекрасной
Невестой ехал. Скатерть-самобранка
Усердно им дорогою служила,
И был всегда готов им вкусный завтрак,
Обед и ужин в надлежащий час:
На мураве душистой утром, в полдень
Под деревом густовершинным, ночью
Под шелковым шатром, который был
Всегда из двух отдельных половин
Составлен. И за каждой их трапезой
Играли гусли-самогуды; ночью
Светила им жар-птица, а дубинка
Стояла на часах перед шатром;
Кони же, подружась, гуляли вместе,
Каталися по бархатному лугу,
Или траву росистую щипали,
Иль, голову кладя поочередно
Друг другу на спину, спокойно спали.
Так ехали они путем-дорогой
И наконец приехали в то царство,
Которым властвовал отец Ивана
Царевича, премудрый царь Демьян
Данилович. И царство все, от самых
Его границ до царского дворца,
Объято было сном непробудимым;
И где они ни проезжали, все
Там спало; на поле перед сохой
Стояли спящие волы; близ них
С своим бичом, взмахнутым и заснувшим
На взмахе, пахарь спал; среди большой
Дороги спал ездок с конем, и пыль,
Поднявшись, сонная, недвижным клубом
Стояла; в воздухе был мертвый сон;
На деревах листы дремали молча;
И в ветвях сонные молчали птицы;
В селеньях, в городах все было тихо,
Как будто в гробе: люди по домам,
По улицам, гуляя, сидя, стоя,
И с ними всё: собаки, кошки, куры,
В конюшнях лошади, в закутах овцы,
И мухи на стенах, и дым в трубах
Всё спало. Так в отцовскую столицу
Иван-царевич напоследок прибыл
С царевною Еленою прекрасной.
И, на широкий въехав царский двор,
Они на нем лежащие два трупа
Увидели: то были Клим и Петр
Царевичи, убитые Кощеем.
Иван-царевич, мимо караула,
Стоявшего в параде сонным строем,
Прошед, по лестнице повел невесту
В покои царские. Был во дворце,
По случаю прибытия двух старших
Царевых сыновей, богатый пир
В тот самый час, когда убил обоих
Царевичей и сон на весь народ
Навел Кощей: весь пир в одно мгновенье
Тогда заснул, кто как сидел, кто как
Ходил, кто как плясал; и в этом сне
Еще их всех нашел Иван-царевич;
Демьян Данилович спал стоя; подле
Царя храпел министр его двора
С открытым ртом, с неконченным во рту
Докладом; и придворные чины,
Все вытянувшись, сонные стояли
Перед царем, уставив на него
Свои глаза, потухшие от сна,
С подобострастием на сонных лицах,
С заснувшею улыбкой на губах.
Иван-царевич, подошед с царевной
Еленою прекрасною к царю,
Сказал: «Играйте, гусли-самогуды»;
И заиграли гусли-самогуды…
Вдруг все очнулось, все заговорило,
Запрыгало и заплясало; словно
Ни на минуту не был прерван пир.
А царь Демьян Данилович, увидя,
Что перед ним с царевною Еленой
Прекрасною стоит Иван-царевич,
Его любимый сын, едва совсем
Не обезумел: он смеялся, плакал,
Глядел на сына, глаз не отводя,
И целовал его, и миловал,
И напоследок так развеселился,
Что руки в боки — и пошел плясать
С царевною Еленою прекрасной.
Потом он приказал стрелять из пушек,
Звонить в колокола и бирючам
Столице возвестить, что возвратился
Иван-царевич, что ему полцарства
Теперь же уступает царь Демьян
Данилович, что он наименован
Наследником, что завтра брак его
С царевною Еленою свершится
В придворной церкви и что царь Демьян
Данилович весь свой народ зовет
На свадьбу к сыну, всех военных, статских,
Министров, генералов, всех дворян
Богатых, всех дворян мелкопоместных,
Купцов, мещан, простых людей и даже
Всех нищих. И на следующий день
Невесту с женихом повел Демьян
Данилович к венцу; когда же их
Перевенчали, тотчас поздравленье
Им принесли все знатные чины
Обоих полов; а народ на площади
Дворцовой той порой кипел, как море;
Когда же вышел с молодыми царь
К нему на золотой балкон, от крика:
«Да здравствует наш государь Демьян
Данилович с наследником Иваном
Царевичем и с дочерью царевной
Еленою прекрасною!» — все зданья
Столицы дрогнули и от взлетевших
На воздух шапок божий день затмился.
Вот на обед все званные царем
Сошлися гости — вся его столица;
В домах осталися одни больные
Да дети, кошки и собаки. Тут
Свое проворство скатерть-самобранка
Явила: вдруг она на целый город
Раскинулась; сама собою площадь
Уставилась столами, и столы
По улицам в два ряда протянулись;
На всех столах сервиз был золотой,
И не стекло, хрусталь; а под столами
Шелковые ковры повсюду были
Разостланы; и всем гостям служили
Гайдуки в золотых ливреях. Был
Обед такой, какого никогда
Никто не слыхивал: уха, как жидкий
Янтарь, сверкавшая в больших кастрюлях;
Огромножирные, длиною в сажень
Из Волги стерляди на золотых
Узорных блюдах; кулебяка с сладкой
Начинкою, с груздями гуси, каша
С сметаною, блины с икрою свежей
И крупной, как жемчуг, и пироги
Подовые, потопленные в масле;
А для питья шипучий квас в хрустальных
Кувшинах, мартовское пиво, мед
Душистый и вино из всех земель:
Шампанское, венгерское, мадера,
И ренское, и всякие наливки
Короче молвить, скатерть-самобранка
Так отличилася, что было чудо.
Но и дубинка не лежала праздно:
Вся гвардия была за царский стол
Приглашена, вся даже городская
Полиция — дубинка молодецки
За всех одна служила: во дворце
Держала караул; она ж ходила
По улицам, чтоб наблюдать везде
Порядок: кто ей пьяный попадался,
Того она толкала в спину прямо
На съезжую; кого ж в пустом где доме
За кражею она ловила, тот
Был так отшлепан, что от воровства
Навеки отрекался и вступал
На путь добродетели — дубинка, словом,
Неимоверные во время пира
Царю, гостям и городу всему
Услуги оказала. Между тем
Всё во дворце кипело, гости ели
И пили так, что с их румяных лиц
Катился пот; тут гусли-самогуды
Явили все усердие свое:
При них не нужен был оркестр, и гости
Уж музыки наслышались такой,
Какая никогда им и во сне
Не грезилась. Но вот, когда наполнив
Вином заздравный кубок, царь Демьян
Данилович хотел провозгласить
Сам многолетье новобрачным, громко
На площади раздался трубный звук;
Все изумились, все оторопели;
Царь с молодыми сам идет к окну,
И что же их является очам?
Карета в восемь лошадей (трубач
С трубою впереди) к крыльцу дворца
Сквозь улицу толпы народной скачет;
И та карета золотая; козлы
С подушкою и бархатным покрыты
Наметом; назади шесть гайдуков;
Шесть скороходов по бокам; ливреи
На них из серого сукна, по швам
Басоны; на каретных дверцах герб:
В червленом поле волчий хвост под графской
Короною. В карету заглянув,
Иван-царевич закричал: «Да это
Мой благодетель Серый Волк!» Его
Встречать бегом он побежал. И точно,
Сидел в карете Серый Волк; Иван
Царевич, подскочив к карете, дверцы
Сам отворил, подножку сам откинул
И гостя высадил; потом он, с ним
Поцеловавшись, взял его за лапу,
Ввел во дворец и сам его царю
Представил. Серый Волк, отдав поклон
Царю, осанисто на задних лапах
Всех обошел гостей, мужчин и дам,
И всем, как следует, по комплименту
Приятному сказал; он был одет
Отлично: красная на голове
Ермолка с кисточкой, под морду лентой
Подвязанная; шелковый платок
На шее; куртка с золотым шитьем;
Перчатки лайковые с бахромою;
Перепоясанные тонкой шалью
Из алого атласа шаровары;
Сафьяновые на задних лапах туфли,
И на хвосте серебряная сетка
С жемчужною кистью — так был Серый Волк
Одет. И всех своим он обхожденьем
Очаровал; не только что простые
Дворяне маленьких чинов и средних,
Но и чины придворные, статс-дамы
И фрейлины все были от него
Как без ума. И, гостя за столом
С собою рядом посадив, Демьян
Данилович с ним кубком в кубок стукнул
И возгласил здоровье новобрачным,
И пушечный заздравный грянул залп.
Пир царский и народный продолжался
До темной ночи; а когда настала
Ночная тьма, жар-птицу на балконе
В ее богатой клетке золотой
Поставили, и весь дворец, и площадь,
И улицы, кипевшие народом,
Яснее дня жар-птица осветила.
И до утра столица пировала.
Был ночевать оставлен Серый Волк;
Когда же на другое утро он,
Собравшись в путь, прощаться стал с Иваном
Царевичем, его Иван-царевич
Стал уговаривать, чтоб он у них
Остался на житье, и уверял,
Что всякую получит почесть он,
Что во дворце дадут ему квартиру,
Что будет он по чину в первом классе,
Что разом все получит ордена,
И прочее. Подумав, Серый Волк
В знак своего согласия Ивану
Царевичу дал лапу, и Иван
Царевич так был тронут тем, что лапу
Поцеловал. И во дворце стал жить
Да поживать по-царски Серый Волк.
Вот наконец, по долгом, мирном, славном
Владычестве, премудрый царь Демьян
Данилович скончался, на престол
Взошел Иван Демьянович; с своей
Царицей он до самых поздних лет
Достигнул, и господь благословил
Их многими детьми; а Серый Волк
Душою в душу жил с царем Иваном
Демьяновичем, нянчился с его
Детьми, сам, как дитя, резвился с ними,
Меньшим рассказывал нередко сказки,
А старших выучил читать, писать
И арифметике и им давал
Полезные для сердца наставленья.
Вот напоследок, царствовав премудро,
И царь Иван Демьянович скончался;
За ним последовал и Серый Волк
В могилу. Но в его нашлись бумагах
Подробные записки обо всем,
Что на своем веку в лесу и свете
Заметил он, и мы из тех записок
Составили правдивый наш рассказ.
Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче
Жил-был царь Берендей до колен борода. Уж три года
Был он женат и жил в согласье с женою; но все им
Бог детей не давал, и было царю то прискорбно.
Нужда случилась царю осмотреть свое государство;
Он простился с царицей и восемь месяцев ровно
Пробыл в отлучке. Девятый был месяц в исходе, когда он,
К царской столице своей подъезжая, на поле чистом
В знойный день отдохнуть рассудил; разбили палатку;
Душно стало царю под палаткой, и смерть захотелось
Выпить студеной воды. Но поле было безводно…
Как быть, что делать? А плохо приходит; вот он решился
Сам объехать все поле: авось попадется на счастье
Где-нибудь ключ. Поехал и видит колодезь. Поспешно
Спрянув с коня, заглянул он в него: он полон водою
Вплоть до самых краев; золотой на поверхности ковшик
Плавает. Царь Берендей поспешно за ковшик — не тут-то
Было: ковшик прочь от руки. За янтарную ручку
Царь с нетерпеньем то правой рукою, то левой хватает
Ковшик; но ручка, проворно виляя и вправо и влево,
Только что дразнит царя и никак не дается.
Что за причина? Вот он, выждавши время, чтоб ковшик
Стал на место, хвать его разом справа и слева
Как бы не так! Из рук ускользнувши, как рыбка нырнул он
Прямо на дно колодца и снова потом на поверхность
Выплыл, как будто ни в чем не бывало. «Постой же! (подумал
Царь Берендей) я напьюсь без тебя», и, недолго сбираясь,
Жадно прильнул он губами к воде и струю ключевую
Начал тянуть, не заботясь о том, что в воде утонула
Вся его борода. Напившися вдоволь, поднять он
Голову хочет… ан нет, погоди! не пускают; и кто-то
Царскую бороду держит. Упершись в ограду колодца,
Силится он оторваться, трясет, вертит головою
Держат его, да и только. «Кто там? пустите!» — кричит он.
Нет ответа; лишь страшная смотрит со дна образина:
Два огромные глаза горят, как два изумруда;
Рот разинутый чудным смехом смеется; два ряда
Крупных жемчужин светятся в нем, и язык, меж зубами
Выставясь, дразнит царя; а в бороду впутались крепко
Вместо пальцев клешни. И вот наконец сиповатый
Голос сказал из воды: «Не трудися, царь, понапрасну;
Я тебя не пущу. Если же хочешь на волю,
Дай мне то, что есть у тебя и чего ты не знаешь».
Царь подумал: «Чего ж я не знаю? Я, кажется, знаю
Все!» И он отвечал образине: «Изволь, я согласен».
«Ладно! — опять сиповатый послышался голос. — Смотри же,
Слово сдержи, чтоб себе не нажить ни попрека, ни худа».
С этим словом исчезли клешни; образина пропала.
Честную выручив бороду, царь отряхнулся, как гоголь,
Всех придворных обрызгал, и все царю поклонились.
Сев на коня, он поехал; и долго ли, мало ли ехал,
Только уж вот он близко столицы; навстречу толпами
Сыплет народ, и пушки палят, и на всех колокольнях
Звон. И царь подъезжает к своим златоверхим палатам
Там царица стоит на крыльце и ждет; и с царицей
Рядом первый министр; на руках он своих парчевую
Держит подушку; на ней же младенец, прекрасный как светлый
Месяц, в пеленках колышется. Царь догадался и ахнул.
«Вот оно то, чего я не знал! Уморил ты, проклятый
Демон, меня!» Так он подумал и горько, горько заплакал.
Все удивились, но слова никто не промолвил. Младенца
На руки взявши, царь Берендей любовался им долго,
Сам его взнес на крыльцо, положил в колыбельку и, горе
Скрыв про себя, по-прежнему царствовать начал. О тайне
Царской никто не узнал; но все примечали, что крепко
Царь был печален — он все дожидался: вот придут за сыном;
Днем он покоя не знал, и сна не ведал он ночью.
Время, однако, текло, а никто не являлся. Царевич
Рос не по дням — по часам; и сделался чудо-красавец.
Вот наконец и царь Берендей о том, что случилось,
Вовсе забыл… но другие не так забывчивы были.
Раз царевич, охотой в лесу забавляясь, в густую
Чащу заехал один. Он смотрит: все дико; поляна;
Черные сосны кругом; на поляне дуплистая липа.
Вдруг зашумело в дупле; он глядит: вылезает оттуда
Чудный какой-то старик, с бородою зеленой, с глазами
Также зелеными. «Здравствуй, Иван-царевич, — сказал он.
Долго тебя дожидалися мы; пора бы нас вспомнить».
«Кто ты?» — царевич спросил. «Об этом после; теперь же
Вот что ты сделай: отцу своему, царю Берендею,
Мой поклон отнеси да скажи от меня: не пора ли,
Царь Берендей, должок заплатить? Уж давно миновалось
Время. Он сам остальное поймет. До свиданья». И с этим
Словом исчез бородатый старик. Иван же царевич
В крепкой думе поехал обратно из темного леса.
Вот он к отцу своему, царю Берендею, приходит.
«Батюшка царь-государь, — говорит он, — со мною случилось
Чудо». И он рассказал о том, что видел и слышал.
Царь Берендей побледнел как мертвец. «Беда, мой сердечный
Друг, Иван-царевич! — воскликнул он, горько заплакав.
Видно, пришло нам расстаться!..» И страшную тайну о данной
Клятве сыну открыл он. «Не плачь, не крушися, родитель,
Так отвечал Иван-царевич, — беда невелика.
Дай мне коня; я поеду; а ты меня дожидайся;
Тайну держи про себя, чтоб о ней здесь никто не проведал,
Даже сама государыня-матушка. Если ж назад я
К вам по прошествии целого года не буду, тогда уж
Знайте, что нет на свете меня». Снарядили как должно
В путь Ивана-царевича. Дал ему царь золотые
Латы, меч и коня вороного; царица с мощами
Крест на шею надела ему; отпели молебен;
Нежно потом обнялися, поплакали… с богом! Поехал
В путь Иван-царевич. Что-то с ним будет? Уж едет
День он, другой и третий; в исходе четвертого — солнце
Только успело зайти — подъезжает он к озеру; гладко
Озеро то, как стекло; вода наравне с берегами;
Все в окрестности пусто; румяным вечерним сияньем
Воды покрытые гаснут, и в них отразился зеленый
Берег и частый тростник — и все как будто бы дремлет;
Воздух не веет; тростинка не тронется; шороха в струйках
Светлых не слышно. Иван-царевич смотрит, и что же
Видит он? Тридцать хохлатых сереньких уточек подле
Берега плавают; рядом тридцать белых сорочек
Подле воды на травке лежат. Осторожно поодаль
Слез Иван-царевич с коня; высокой травою
Скрытый, подполз и одну из белых сорочек тихонько
Взял; потом угнездился в кусте дожидаться, что будет.
Уточки плавают, плещутся в струйках, играют, ныряют.
Вот наконец, поиграв, поныряв, поплескавшись, подплыли
К берегу; двадцать девять из них, побежав с перевалкой
К белым сорочкам, оземь ударились, все обратились
В красных девиц, нарядились, порхнули и разом исчезли.
Только тридцатая уточка, на берег выйти не смея,
Взад и вперед одна-одинешенька с жалобным криком
Около берега бьется; с робостью вытянув шейку,
Смотрит туда и сюда, то вспорхнет, то снова присядет…
Жалко стало Ивану-царевичу. Вот он выходит
К ней из-за кустика; глядь, а она ему человечьим
Голосом вслух говорит: «Иван-царевич, отдай мне
Платье мое, я сама тебе пригожусь». Он с нею
Спорить не стал, положил на травку сорочку и, скромно
Прочь отошедши, стал за кустом. Вспорхнула на травку
Уточка. Что же вдруг видит Иван-царевич? Девица
В белой одежде стоит перед ним, молода и прекрасна
Так, что ни в сказке сказать, ни пером описать, и, краснея,
Руку ему подает и, потупив стыдливые очи,
Голосом звонким, как струны, ему говорит: «Благодарствуй,
Добрый Иван-царевич, за то, что меня ты послушал;
Тем ты себе самому услужил, но и мною доволен
Будешь: я дочь Кощея бессмертного, Марья-царевна;
Тридцать нас у него, дочерей молодых. Подземельным
Царством владеет Кощей. Он давно уж тебя поджидает
В гости и очень сердит; но ты не пекись, не заботься,
Сделай лишь то, что я тебе присоветую. Слушай:
Только завидишь Кощея-царя, упади на колена,
Прямо к нему поползи; затопает он — не пугайся;
Станет ругаться — не слушай; ползи да и только; что после
Будет, увидишь; теперь пора нам». И Марья-царевна
В землю ударила маленькой ножкой своей; расступилась
Тотчас земля, и они вместе в подземное царство спустились.
Видят дворец Кощея бессмертного; высечен был он
Весь из карбункула-камня и ярче небесного солнца
Все под землей освещал. Иван-царевич отважно
Входит: Кощей сидит на престоле в светлой короне;
Блещут глаза, как два изумруда; руки с клешнями.
Только завидел его вдалеке, тотчас на колени
Стал Иван-царевич. Кощей ж затопал, сверкнуло
Страшно в зеленых глазах, и так закричал он, что своды
Царства подземного дрогнули. Слово Марьи-царевны
Вспомня, пополз на карачках Иван-царевич к престолу;
Царь шумит, а царевич ползет да ползет. Напоследок
Стало царю и смешно. «Добро ты, проказник, — сказал он,
Если тебе удалося меня рассмешить, то с тобою
Ссоры теперь заводить я не стану. Милости просим
К нам в подземельное царство; но знай, за твое ослушанье
Должен ты нам отслужить три службы; сочтемся мы завтра;
Ныне уж поздно; поди». Тут два придворных проворно
Под руки взяли Ивана-царевича очень учтиво,
С ним пошли в покой, отведенный ему, отворили
Дверь, поклонились царевичу в пояс, ушли, и остался
Там он один. Беззаботно он лег на постелю и скоро
Сном глубоким заснул. На другой день рано поутру
Царь Кощей к себе Ивана-царевича кликнул.
«Ну, Иван-царевич, — сказал он, — теперь мы посмотрим,
Что-то искусен ты делать? Изволь, например, нам построить
Нынешней ночью дворец: чтоб кровля была золотая,
Стены из мрамора, окна хрустальные, вкруг регулярный
Сад, и в саду пруды с карасями; если построишь
Этот дворец, то нашу царскую милость заслужишь;
Если же нет, то прошу не пенять… головы не удержишь!»
«Ах ты, Кощей окаянный, — Иван-царевич подумал,
Вот что затеял, смотри пожалуй!» С тяжелой кручиной
Он возвратился к себе и сидит пригорюнясь; уж вечер;
Вот блестящая пчелка к его подлетела окошку,
Бьется об стекла — и слышит он голос: «Впусти!» Отворил он
Дверку окошка, пчелка влетела и вдруг обернулась
Марьей-царевной. «Здравствуй, Иван-царевич; о чем ты
Так призадумался?» — «Нехотя будешь задумчив, — сказал он.
Батюшка твой до моей головы добирается». — «Что же
Сделать решился ты?» — «Что? Ничего. Пускай его снимет
Голову; двух смертей не видать, одной не минуешь».
«Нет, мой милый Иван-царевич, не должно терять нам
Бодрости. То ли беда? Беда впереди; не печалься;
Утро вечера, знаешь ты сам, мудренее: ложися
Спать; а завтра поранее встань; уж дворец твой построен
Будет; ты ж только ходи с молотком да постукивай в стену».
Так все и сделалось. Утром ни свет ни заря, из каморки
Вышел Иван-царевич… глядит, а дворец уж построен.
Чудный такой, что сказать невозможно. Кощей изумился;
Верить не хочет глазам. «Да ты хитрец не на шутку,
Так он сказал Ивану-царевичу, — вижу, ты ловок
На руку; вот мы посмотрим, так же ли будешь догадлив.
Тридцать есть у меня дочерей, прекрасных царевен.
Завтра я всех их рядом поставлю, и должен ты будешь
Три раза мимо пройти и в третий мне раз без ошибки
Младшую дочь мою, Марью-царевну, узнать; не узнаешь
С плеч голова. Поди». — «Уж выдумал, чучела, мудрость,
Думал Иван-царевич, сидя под окном. — Не узнать мне
Марью-царевну… какая ж тут трудность?» — «А трудность такая.
Молвила Марья-царевна, пчелкой влетевши, — что если
Я не вступлюся, то быть беде неминуемой. Всех нас
Тридцать сестер, и все на одно мы лицо; и такое
Сходство меж нами, что сам отец наш только по платью
Может нас различать». — «Ну что же мне делать?» — «А вот что:
Буду я та, у которой на правой щеке ты заметишь
Мошку. Смотри же, будь осторожен, вглядись хорошенько,
Сделать ошибку легко. До свиданья». И пчелка исчезла.
Вот на другой день опять Ивана-царевича кличет
Царь Кощей. Царевны уж тут, и все в одинаковом
Платье рядом стоят, потупив глаза. «Ну, искусник,
Молвил Кощей, — изволь-ка пройтиться три раза мимо
Этих красавиц, да в третий раз потрудись указать нам
Марью-царевну». Пошел Иван-царевич; глядит он
В оба глаза: уж подлинно сходство! И вот он проходит
В первый раз — мошки нет; проходит в другой раз — все мошки
Нет; проходит в третий и видит — крадется мошка,
Чуть заметно, по свежей щеке, а щека-то под нею
Так и горит; загорелось и в нем, и с трепещущим сердцем:
«Вот она, Марья-царевна!»— сказал он Кощею, подавши
Руку красавице с мошкой. «Э, э! да тут, примечаю,
Что-то нечисто, — Кощей проворчал, на царевича с сердцем
Выпучив оба зеленые глаза. — Правда, узнал ты
Марью-царевну, но как узнал? Вот тут-то и хитрость;
Верно, с грехом пополам. Погоди же, теперь доберуся
Я до тебя. Часа через три ты опять к нам пожалуй;
Рады мы гостю, а ты нам свою премудрость на деле
Здесь покажи: зажгу я соломинку; ты же, покуда
Будет гореть та соломинка, здесь, не трогаясь с места,
Сшей мне пару сапог с оторочкой; не диво; да только
Знай наперед: не сошьешь — долой голова; до свиданья».
Зол возвратился к себе Иван-царевич, а пчелка
Марья-царевна уж там. «Отчего опять так задумчив,
Милый Иван-царевич?» — спросила она. «Поневоле
Будешь задумчив, — он ей отвечал. — Отец твой затеял
Новую шутку: шей я ему сапоги с оторочкой;
Разве какой я сапожник? Я царский сын; я не хуже
Родом его. Кощей он бессмертный! видали мы много
Этих бессмертных». — «Иван-царевич, да что же ты будешь
Делать?» — Что мне тут делать? Шить сапогов я не стану.
Снимет он голову — черт с ним, с собакой! какая мне нужда!»
«Нет, мой милый, ведь мы теперь жених и невеста;
Я постараюсь избавить тебя; мы вместе спасемся
Или вместе погибнем. Нам должно бежать; уж другого
Способа нет». Так сказав, на окошко Марья-царевна
Плюнула; слюнки в минуту примерзли к стеклу; из каморки
Вышла она потом с Иваном-царевичем вместе,
Двери ключом заперла и ключ далеко зашвырнула.
За руки взявшись потом, они поднялися и мигом
Там очутились, откуда сошли в подземельное царство.
То же озеро, низкий берег, муравчатый, свежий
Луг, и, видят, по лугу свежему бодро гуляет
Конь Ивана-царевича. Только почуял могучий
Конь седока своего, как заржал, заплясал и помчался
Прямо к нему и, примчавшись, как вкопанный в землю
Стал перед ним. Иван-царевич, не думая долго,
Сел на коня, царевна за ним, и пустились стрелою.
Царь Кощей в назначенный час посылает придворных
Слуг доложить Ивану-царевичу: что-де так долго
Мешкать изволите? Царь дожидается. Слуги приходят;
Заперты двери. Стук! стук! и вот из-за двери им слюнки,
Словно как сам Иван-царевич, ответствуют: буду.
Этот ответ придворные слуги относят к Кощею;
Ждать-подождать — царевич нейдет; посылает в другой раз
Тех же послов рассерженный Кощей, и та же всё песня:
Буду; а нет никого. Взбесился Кощей. «Насмехаться,
Что ли, он вздумал? Бегите же; дверь разломать и в минуту
3а ворот к нам притащить неучтивца!» Бросились слуги…
Двери разломаны… вот тебе раз; никого там, а слюнки
Так и хохочут. Кощей едва от злости не лопнул.
«Ах! он вор окаянный! люди! люди! Скорее
Все в погоню за ним!.. я всех перевешаю, если
Он убежит!..» Помчалась погоня… «Мне слышится топот»,
Шепчет Ивану-царевичу Марья-царевна, прижавшись
Жаркою грудью к нему. Он слезает с коня и, припавши
Ухом к земле, говорит ей: «Скачут, и близко». — «Так медлить
Нечего», — Марья-царевна сказала, и в ту же минуту
Сделалась речкой сама, Иван-царевич железным
Мостиком, черным вороном конь, а большая дорога
На три дороги разбилась за мостиком. Быстро погоня
Скачет по свежему следу; но, к речке примчавшись, стали
В пень Кощеевы слуги: след до мостика виден;
Дале ж и след пропадает, и делится на три дорога.
Нечего делать — назад! Воротились разумники. Страшно
Царь Кощей разозлился, о их неудаче услышав.
«Черти! ведь мостик и речка были они! Догадаться
Можно бы вам, дуралеям! Назад! чтоб был непременно
Здесь он!..» Опять помчалась погоня… «Мне слышится топот»,
Шепчет опять Ивану-царевичу Марья-царевна.
Слез он с седла и, припавши ухом к земле, говорит ей:
«Скачут, и близко». И в ту же минуту Марья-царевна
Вместе с Иваном-царевичем, с ними и конь их, дремучим
Сделались лесом; в лесу том дорожек, тропинок числа нет;
По лесу ж, кажется, конь с двумя седоками несется.
Вот по свежему следу гонцы примчалися к лесу;
Видят в лесу скакунов и пустились вдогонку за ними.
Лес же раскинулся вплоть до входа в Кощеево царство.
Мчатся гонцы, а конь перед ними скачет да скачет;
Кажется, близко; ну только б схватить; ан нет, не дается.
Глядь! очутились они у входа в Кощеево царство.
В самом том месте, откуда пустились в погоню; и скрылось
Всё: ни коня, ни дремучего лесу. С пустыми руками
Снова явились к Кощею они. Как цепная собака,
Начал метаться Кощей. «Вот я ж его, плута! Коня мне!
Сам поеду, увидим мы, как от меня отвертится!»
Снова Ивану-царевичу Марья-царевна тихонько
Шепчет: «Мне слышится топот»; и снова он ей отвечает:
«Скачут, и близко». — «Беда нам! Ведь это Кощей, мой родитель
Сам; но у первой церкви граница его государства;
Далее ж церкви скакать он никак не посмеет. Подай мне
Крест твой с мощами». Послушавшись Марьи-царевны, снимает
С шеи свой крест золотой Иван-царевич и в руки
Ей подает, и в минуту она обратилася в церковь,
Он в монаха, а конь в колокольню — и в ту же минуту
С свитою к церкви Кощей прискакал. «Не видал ли проезжих,
Старец честной?» — он спросил у монаха. «Сейчас проезжали
Здесь Иван-царевич с Марьей-царевной; входили
В церковь они — святым помолились да мне приказали
Свечку поставить за здравье твое и тебе поклониться,
Если ко мне ты заедешь». — «Чтоб шею сломить им, проклятым!»
Крикнул Кощей и, коня повернув, как безумный помчался
С свитой назад, а примчавшись домой, пересек беспощадно
Всех до единого слуг. Иван же царевич с своею
Марьей-царевной поехали дале, уже не бояся
Боле погони. Вот они едут шажком; уж склонялось
Солнце к закату, и вдруг в вечерних лучах перед ними
Город прекрасный. Ивану-царевичу смерть захотелось
В этот город заехать. «Иван-царевич, — сказала
Марья-царевна, — не езди; недаром вещее сердце
Ноет во мне: беда приключится». — «Чего ты боишься,
Марья-царевна? Заедем туда на минуту; посмотрим
Город, потом и назад». — «Заехать нетрудно, да трудно
Выехать будет. Но быть так! ступай, а я здесь останусь
Белым камнем лежать у дороги; смотри ж, мой милый,
Будь осторожен: царь и царица, и дочь их царевна
Выдут навстречу тебе, и с ними прекрасный младенец
Будет; младенца того не целуй: поцелуешь — забудешь
Тотчас меня, тогда и я не останусь на свете,
С горя умру, и умру от тебя. Вот здесь, у дороги,
Буду тебя дожидаться я три дни; когда же на третий
День не придешь… но прости, поезжай». И в город поехал,
С нею простяся, Иван-царевич один. У дороги
Белым камнем осталася Марья-царевна. Проходит
День, проходит другой, напоследок проходит и третий
Нет Ивана-царевича. Бедная Марья-царевна!
Он не исполнил ее наставленья: в городе вышли
Встретить его и царь, и царица, и дочь их царевна;
Выбежал с ними прекрасный младенец, мальчик-кудряшка,
Живчик, глазенки как ясные звезды; и бросился прямо
В руки Ивану-царевичу; он же его красотою
Так был пленен, что, ум потерявши, в горячие щеки
Начал его целовать; и в эту минуту затмилась
Память его, и он позабыл о Марье-царевне.
Горе взяло ее. «Ты покинул меня, так и жить мне
Незачем боле». И в то же мгновенье из белого камня
Марья-царевна в лазоревый цвет полевой превратилась.
«Здесь, у дороги, останусь, авось мимоходом затопчет
Кто-нибудь в землю меня», — сказала она, и росинки
Слез на листках голубых заблистали. Дорогой в то время
Шел старик; он цветок голубой у дороги увидел;
Нежной его красотою пленясь, осторожно он вырыл
С корнем его, и в избушку свою перенес, и в корытце
Там посадил, и полил водой, и за милым цветочком
Начал ухаживать. Что же случилось? С той самой минуты
Всё не по-старому стало в избушке; чудесное что-то
Начало деяться в ней: проснется старик — а в избушке
Все уж как надо прибрано; нет нигде ни пылинки.
В полдень придет он домой — а обед уж состряпан, и чистой
Скатертью стол уж накрыт: садися и ешь на здоровье.
Он дивился, не знал, что подумать; ему напоследок
Стало и страшно, и он у одной ворожейки-старушки
Начал совета просить, что делать. «А вот что ты сделай,
Так отвечала ему ворожейка, — встань ты до первой
Ранней зари, пока петухи не пропели, и в оба
Глаза гляди: что начнет в избушке твоей шевелиться,
То ты вот этим платком и накрой. Что будет, увидишь».
Целую ночь напролет старик пролежал на постеле,
Глаз не смыкая. Заря занялася, и стало в избушке
Видно, и видит он вдруг, что цветок голубой встрепенулся,
С тонкого стебля спорхнул и начал летать по избушке;
Все между тем по местам становилось, повсюду сметалась
Пыль, и огонь разгорался в печурке. Проворно с постели
Прянул старик и накрыл цветочек платком, и явилась
Вдруг пред глазами его красавица Марья-царевна.
«Что ты сделал? — сказала она. — Зачем возвратил ты
Жизнь мне мою? Жених мой, Иван-царевич прекрасный,
Бросил меня, и я им забыта». — «Иван твой царевич
Женится нынче. Уж свадебный пир приготовлен, и гости
Съехались все». Заплакала горько Марья-царевна;
Слезы потом отерла; потом, в сарафан нарядившись,
В город крестьянкой пошла. Приходит на царскую кухню;
Бегают там повара в колпаках и фартуках белых;
Шум, возня, стукотня. Вот Марья-царевна, приближась
К старшему повару, с видом умильным и сладким, как флейта,
Голосом молвила: «Повар, голубчик, послушай, позволь мне
Свадебный спечь пирог для Ивана-царевича». Повар,
Занятый делом, с досады хотел огрызнуться; но слово
Замерло вдруг у него на губах, когда он увидел
Марью-царевну; и ей отвечал он с приветливым взглядом:
«В добрый час, девица-красавица; все, что угодно,
Делай; Ивану-царевичу сам поднесу я пирог твой».
Вот пирог испечен; а званые гости, как должно,
Все уж сидят за столом и пируют. Услужливый повар
Важно огромный пирог на узорном серебряном блюде
Ставит на стол перед самым Иваном-царевичем; гости
Все удивились, увидя пирог. Но лишь только верхушку
Срезал с него Иван-царевич — новое чудо!
Сизый голубь с белой голубкой порхнули оттуда.
Голубь по столу ходит; голубка за ним и воркует:
«Голубь, мой голубь, постой, не беги; обо мне ты забудешь
Так, как Иван-царевич забыл о Марье-царевне!»
Ахнул Иван-царевич, то слово голубки услышав;
Он вскочил как безумный и кинулся в дверь, а за дверью
Марья-царевна стоит уж и ждет. У крыльца же
Конь вороной с нетерпенья, оседланный, взнузданный пляшет.
Нечего медлить: поехал Иван-царевич с своею
Марьей-царевной: едут да едут, и вот приезжают
В царство царя Берендея они. И царь и царица
Приняли их с весельем таким, что такого веселья
Видом не видано, слыхом не слыхано. Долго не стали
Думать, честным пирком да за свадебку; съехались гости,
Свадьбу сыграли; я там был, там мед я и пиво
Пил; по усам текло, да в рот не попало. И все тут.
Спящая царевна
Жил-был добрый царь Матвей;
Жил с царицею своей
Он в согласье много лет;
А детей все нет как нет.
Раз царица на лугу,
На зеленом берегу
Ручейка была одна;
Горько плакала она.
Вдруг, глядит, ползет к ней рак;
Он сказал царице так:
«Мне тебя, царица, жаль;
Но забудь свою печаль;
Понесешь ты в эту ночь:
У тебя родится дочь».
«Благодарствуй, добрый рак;
Не ждала тебя никак...»
Но уж рак уполз в ручей,
Не слыхав ее речей.
Он, конечно, был пророк;
Что сказал — сбылося в срок:
Дочь царица родила.
Дочь прекрасна так была,
Что ни в сказке рассказать,
Ни пером не описать.
Вот царем Матвеем пир
Знатный дан на целый мир;
И на пир веселый тот
Царь одиннадцать зовет
Чародеек молодых;
Было ж всех двенадцать их;
Но двенадцатой одной,
Хромоногой, старой, злой,
Царь на праздник не позвал.
Отчего ж так оплошал
Наш разумный царь Матвей?
Было то обидно ей.
Так, но есть причина тут:
У царя двенадцать блюд
Драгоценных, золотых
Было в царских кладовых;
Приготовили обед;
А двенадцатого нет
(Кем украдено оно,
Знать об этом не дано).
«Что ж тут делать? — царь сказал.
Так и быть!» И не послал
Он на пир старухи звать.
Собралися пировать
Гости, званные царем;
Пили, ели, а потом,
Хлебосольного царя
За прием благодаря,
Стали дочь его дарить:
«Будешь в золоте ходить;
Будешь чудо красоты;
Будешь всем на радость ты
Благонравна и тиха;
Дам красавца жениха
Я тебе, мое дитя;
Жизнь твоя пройдет шутя
Меж знакомых и родных...»
Словом, десять молодых
Чародеек, одарив
Так дитя наперерыв,
Удалились; в свой черед
И последняя идет;
Но еще она сказать
Не успела слова — глядь!
А незваная стоит
Над царевной и ворчит:
«На пиру я не была,
Но подарок принесла:
На шестнадцатом году
Повстречаешь ты беду;
В этом возрасте своем
Руку ты веретеном
Оцарапаешь, мой свет,
И умрешь во цвете лет!
Проворчавши так, тотчас
Ведьма скрылася из глаз;
Но оставшаяся там
Речь домолвила: «Не дам
Без пути ругаться ей
Над царевною моей;
Будет то не смерть, а сон;
Триста лет продлится он;
Срок назначенный пройдет,
И царевна оживет;
Будет долго в свете жить;
Будут внуки веселить
Вместе с нею мать, отца
До земного их конца».
Скрылась гостья. Царь грустит;
Он не ест, не пьет, не спит:
Как от смерти дочь спасти?
И, беду чтоб отвести,
Он дает такой указ:
«Запрещается от нас
В нашем царстве сеять лен,
Прясть, сучить, чтоб веретен
Духу не было в домах;
Чтоб скорей как можно прях
Всех из царства выслать вон».
Царь, издав такой закон,
Начал пить, и есть, и спать,
Начал жить да поживать,
Как дотоле, без забот.
Дни проходят; дочь растет;
Расцвела, как майский цвет;
Вот уж ей пятнадцать лет...
Что-то, что-то будет с ней!
Раз с царицею своей
Царь отправился гулять;
Но с собой царевну взять
Не случилось им; она
Вдруг соскучилась одна
В душной горнице сидеть
И на свет в окно глядеть.
«Дай, — сказала наконец,
Осмотрю я наш дворец».
По дворцу она пошла:
Пышных комнат нет числа;
Всем любуется она;
Вот, глядит, отворена
Дверь в покой; в покое том
Вьется лестница винтом
Вкруг столба; по ступеням
Всходит вверх и видит — там
Старушоночка сидит;
Гребень под носом торчит;
Старушоночка прядет
И за пряжею поет:
«Веретенце, не ленись;
Пряжа тонкая, не рвись;
Скоро будет в добрый час
Гостья жданная у нас».
Гостья жданная вошла;
Пряха молча подала
В руки ей веретено;
Та взяла, и вмиг оно
Укололо руку ей...
Все исчезло из очей;
На нее находит сон;
Вместе с ней объемлет он
Весь огромный царский дом;
Все утихнуло кругом;
Возвращаясь во дворец,
На крыльце ее отец
Пошатнулся, и зевнул,
И с царицею заснул;
Свита вся за ними спит;
Стража царская стоит
Под ружьем в глубоком сне,
И на спящем спит коне
Перед ней хорунжий сам;
Неподвижно по стенам
Мухи сонные сидят;
У ворот собаки спят;
В стойлах, головы склонив,
Пышны гривы опустив,
Кони корму не едят,
Кони сном глубоким спят;
Повар спит перед огнем;
И огонь, объятый сном,
Не пылает, не горит,
Сонным пламенем стоит;
И не тронется над ним,
Свившись клубом, сонный дым;
И окрестность со дворцом
Вся объята мертвым сном;
И покрыл окрестность бор;
Из терновника забор
Дикий бор тот окружил;
Он навек загородил
К дому царскому пути:
Долго, долго не найти
Никому туда следа
И приблизиться беда!
Птица там не пролетит,
Близко зверь не пробежит,
Даже облака небес
На дремучий, темный лес
Не навеет ветерок.
Вот уж полный век протек;
Словно не жил царь Матвей
Так из памяти людей
Он изгладился давно;
Знали только то одно,
Что средь бора дом стоит,
Что царевна в доме спит,
Что проспать ей триста лет,
Что теперь к ней следу нет.
Много было смельчаков
(По сказанью стариков),
В лес брались они сходить,
Чтоб царевну разбудить;
Даже бились об заклад
И ходили — но назад
Не пришел никто. С тех пор
В неприступный, страшный бор
Ни старик, ни молодой
За царевной ни ногой.
Время ж все текло, текло;
Вот и триста лет прошло.
Что ж случилося? В один
День весенний царский сын,
Забавляясь ловлей, там
По долинам, по полям
С свитой ловчих разъезжал.
Вот от свиты он отстал;
И у бора вдруг один
Очутился царский сын.
Бор, он видит, темен, дик.
С ним встречается старик.
С стариком он в разговор:
«Расскажи про этот бор
Мне, старинушка честной!»
Покачавши головой,
Все старик тут рассказал,
Что от дедов он слыхал
О чудесном боре том:
Как богатый царский дом
В нем давным-давно стоит,
Как царевна в доме спит,
Как ее чудесен сон,
Как три века длится он,
Как во сне царевна ждет,
Что спаситель к ней придет;
Как опасны в лес пути,
Как пыталася дойти
До царевны молодежь,
Как со всяким то ж да то ж
Приключалось: попадал
В лес, да там и погибал.
Был детина удалой
Царский сын; от сказки той
Вспыхнул он, как от огня;
Шпоры втиснул он в коня;
Прянул конь от острых шпор
И стрелой помчался в бор,
И в одно мгновенье там.
Что ж явилося очам
Сына царского? Забор,
Ограждавший темный бор,
Не терновник уж густой,
Но кустарник молодой;
Блещут розы по кустам;
Перед витязем он сам
Расступился, как живой;
В лес въезжает витязь мой:
Всё свежо, красно пред ним;
По цветочкам молодым
Пляшут, блещут мотыльки;
Светлой змейкой ручейки
Вьются, пенятся, журчат;
Птицы прыгают, шумят
В густоте ветвей живых;
Лес душист, прохладен, тих,
И ничто не страшно в нем.
Едет гладким он путем
Час, другой; вот наконец
Перед ним стоит дворец,
Зданье — чудо старины;
Ворота отворены;
В ворота въезжает он;
На дворе встречает он
Тьму людей, и каждый спит:
Тот как вкопанный сидит;
Тот не двигаясь идет;
Тот стоит, раскрывши рот,
Сном пресекся разговор,
И в устах молчит с тех пор
Недоконченная речь;
Тот, вздремав, когда-то лечь
Собрался, но не успел:
Сон волшебный овладел
Прежде сна простого им;
И, три века недвижим,
Не стоит он, не лежит
И, упасть готовый, спит.
Изумлен и поражен
Царский сын. Проходит он
Между сонными к дворцу;
Приближается к крыльцу:
По широким ступеням
Хочет вверх идти; но там
На ступенях царь лежит
И с царицей вместе спит.
Путь наверх загорожен.
«Как же быть? — подумал он.
Где пробраться во дворец?»
Но решился наконец,
И, молитву сотворя,
Он шагнул через царя.
Весь дворец обходит он;
Пышно все, но всюду сон,
Гробовая тишина.
Вдруг глядит: отворена
Дверь в покой; в покое том
Вьется лестница винтом
Вкруг столба; по ступеням
Он взошел. И что же там?
Вся душа его кипит,
Перед ним царевна спит.
Как дитя, лежит она,
Распылалася от сна;
Молод цвет ее ланит,
Меж ресницами блестит
Пламя сонное очей;
Ночи темныя темней,
Заплетенные косой
Кудри черной полосой
Обвились кругом чела;
Грудь как свежий снег бела;
На воздушный, тонкий стан
Брошен легкий сарафан;
Губки алые горят;
Руки белые лежат
На трепещущих грудях;
Сжаты в легких сапожках
Ножки — чудо красотой.
Видом прелести такой
Отуманен, распален,
Неподвижно смотрит он;
Неподвижно спит она.
Что ж разрушит силу сна?
Вот, чтоб душу насладить,
Чтоб хоть мало утолить
Жадность пламенных очей,
На колени ставши, к ней
Он приблизился лицом:
Распалительным огнем
Жарко рдеющих ланит
И дыханьем уст облит,
Он души не удержал
И ее поцеловал.
Вмиг проснулася она;
И за нею вмиг от сна
Поднялося все кругом:
Царь, царица, царский дом;
Снова говор, крик, возня;
Все как было; словно дня
Не прошло с тех пор, как в сон
Весь тот край был погружен.
Царь на лестницу идет;
Нагулявшися, ведет
Он царицу в их покой;
Сзади свита вся толпой;
Стражи ружьями стучат;
Мухи стаями летят;
Приворотный лает пес;
На конюшне свой овес
Доедает добрый конь;
Повар дует на огонь,
И, треща, огонь горит,
И струею дым бежит;
Всё бывалое — один
Небывалый царский сын.
Он с царевной наконец
Сходит сверху; мать, отец
Принялись их обнимать.
Что ж осталось досказать?
Свадьба, пир, и я там был
И вино на свадьбе пил;
По усам вино бежало,
В рот же капли не попало.
Три пояса
В царствование великого князя Владимира, неподалеку от Киева, на берегу быстрого Днепра, в уединенной хижине жили три молодые девушки, сиротки, очень дружные между собою; одна называлась Пересветою, другая — Мирославою, а третья — Людмилою.
Пересвета и Мирослава были прекрасны, как майский день; соседи называли их алыми розами, отчего они сделались несколько самолюбивы.
Людмила была не красавица, никто ее не хвалил, и подруги ее, которых она любила всем сердцем, твердили ей каждый божий день:
— Людмила, бедная Людмила, ты никогда не выйдешь замуж. Кто тебя полюбит, ты не красавица и не богата.
Добрая Людмила верила им в простоте сердца и не печалилась: «Они говорят правду: я никогда не выйду замуж. Что ж нужды? Я буду любить Пересвету и Мирославу более всего на свете, буду ими любима: какого счастия желать мне более?»Так думала простосердечная Людмила, и чистая душа ее была спокойна. Ей минуло пятнадцать лет, но еще никакое смутное желание не волновало невинного ее сердца: любить своих подруг, ходить за цветами, распевать песни, как нежная малиновка, — таковы были все удовольствия доброй Людмилы.
В один день все три подруги гуляли по берегу ручья, осененного соснами и березами. Пересвета и Мирослава рвали цветы для украшения головы своей, и Людмила также рвала их — для Пересветы и Мирославы: она воображала, что ей неприлично думать об украшении.
Вдруг видят они на берегу ручья старушку, которая спала глубоким сном; солнечные лучи падали прямо на ее голову, седую и почти лишенную волос. Пересвета и Мирослава засмеялись.
— Сестрица, — сказала одна, — какова покажется тебе эта красавица?
— Лучше тебя, Мирослава!
— И тебя, Пересвета!
— Шафран едва ли превзойдет желтизною эти прекрасные щеки, покрытые приятными морщинами.
— А этот нос, Пересвета, не правда ли, что он очень скромно пригнулся к подбородку?
— Сказать правду, и подбородок отвечает своею фигурою красивому носу. Они срослись, сестрица.
В продолжение разговора и та и другая беспрестанно смеялись.
— Ах, сестрицы, — сказала тихая Людмила, — вам не пристало смеяться над этой старушкою. Что она вам сделала? Она стара: ее ли это вина? И вы состаритесь в свою очередь: для чего же смеяться над тем недостатком, который непременно будете иметь сами. Смеяться над старыми — значит прежде времени смеяться над собою. Будьте рассудительны, скажу лучше — будьте жалостливы. Посмотрите, как солнце палит голову этой бедной женщины. Наломаем березовых веток, сплетем вокруг нее маленький шалаш, чтоб сон ее мог быть спокоен и безопасен. Проснувшись, она благословит нас, будет за нас молиться, а небо всегда исполняет молитвы стариков и нищих, так говорила мне покойная матушка.
Пересвета и Мирослава почувствовали вину свою; они наломали вместе с Людмилою березовых веток, сплели шалаш и прикрыли им голову спящей. Она скоро проснулась, увидела над собою тень, удивилась, начала осматриваться — перед нею стояли Пересвета, Мирослава и Людмила.
— Благодарю вас, милые незнакомки, — сказала она, — приблизьтесь, хочу оставить вам памятник моей благодарности. Вот три пояса; каждая из вас может выбрать для себя тот, который покажется ей лучше и более к лицу.
Старушка кладет на траву три пояса: два из них были чрезвычайно богаты, из крупного жемчуга и алмазов; третий был простая, необыкновенной белизны лента, украшенная фиалками.
Пересвета и Мирослава бросились на жемчуг и алмазы; Людмиле досталась белая лента.
— Благодарю тебя, — сказала она старушке, — этот простой убор мне приличнее. Пересвета и Мирослава прекрасны лицом: им должно иметь и одежду прекрасную, а для меня довольно простой и самой скромной.
— Ты говоришь правду, мой друг, — сказала старушка Людмиле, надевая на нее пояс, — никогда ни за какие сокровища в свете не снимай с себя этой ленты; не верь людям, которые будут говорить, что он тебе не к лицу; остерегайся обольщения гордости: потеряв этот пояс, ты потеряешь и счастие, с ним неразлучное.
Людмила поцеловала старушку и дала ей слово не отдавать никому подарка. Старушка исчезла. Пересвета и Мирослава не могли вслушаться в ее слова; они с восхищением рассматривали свои жемчуги и алмазы и едва успели сказать, что они очень ей благодарны.
Пересвета и Мирослава взялись за руки и побежали в свою хижину. Людмила, заметив, что они имели между собою тайну, шла за ними издали.
— Не правда ли, — сказала наконец Мирослава, оборотясь к Людмиле, — что эта смешная старушка сделала тебе чрезвычайно богатый подарок?
— Не богатый, но очень для меня приятный: я не люблю пышности.
— Но для чего бы ей не сравнять тебя с нами?
— Я об этом не подумала. То, что мне дают, приятнее для меня того, в чем мне отказывают.
— Посмотри, как наши алмазы блистают.
— Посмотрите на мою ленту, как она бела!
— И тебе не завидно?
— Можно ли завидовать тем, которых любишь? Я довольна, если вы счастливы.
— Ты добрая девушка, Людмила. Останься дома, а мы пойдем а Киев покупать новые платья: наши слишком бедны для таких поясов, которые украшены алмазами и жемчугом. За одну жемчужину можем купить десять пар самого богатого платья.
Пересвета и Мирослава пошли в Киев; Людмила осталась дома поливать цветы и кормить своих птичек.
Ввечеру Мирослава и Пересвета возвратились в хижину с великим запасом богатых уборов.
— Важная новость, сестрица, — сказала Пересвета Людмиле, — молодой князь Святослав, Владимиров сын, прекрасный, как весенний день, и храбрый, как богатырь Добрыня, хочет выбрать себе невесту. Множество красавиц, боярских дочерей и даже простых поселянок, собирается в Киев из дальних русских городов, из деревень и хижин. Кто ж запретит и нам искать руки прекрасного князя Святослава? Бог дал нам красоту, а добрая старушка наградила нас богатством. Мирослава и я хотим переселиться в Киев: каждая из нас благодаря своему драгоценному поясу может с честию и отличием показаться в люди. Мы решились и завтра отправляемся в Киев. И ты, добродушная Людмила, можешь за нами последовать; ты будешь смотреть за нашим домом, а наконец увидишь и церемонию выбора, которая должна быть чрезвычайно великолепна.
— Охотно исполню ваше желание, сестрицы, — отвечала с веселою улыбкой Людмила, — буду служить вам от всего сердца: ваше удовольствие составляет мое счастие. Старайтесь пленить прекрасного князя, я буду молить бога, чтобы он склонил к вам его сердце.
Что сказано, то и сделано. Подруги на другой день, рано поутру, отправились в Киев. Мирослава и Пересвета объявили себя дочерям богатых новгородских посадников. Один из бояр Владимировых записал имена их в число желающих представить себя на выбор князю Святославу. Людмила не показалась никому; она молилась богу о счастии своих подруг, шила им платья, низала для них ожерелья, выкладывала золотым галуном и алмазами их сарафаны; забывая самою себя, она жила для одних милых подруг своих.
Наконец наступил торжественный день выбора. Ввечеру дворец великого князя Владимира осветился тысячами светильников; палата, назначенная для торжества, обита была малиновым бархатом; скамейки, на которых надлежало сидеть красавицам, иногородним и киевским, были покрыты шелковыми коврами с золотою бахромою, а для великого князя Владимира и князя Святослава приготовили возвышенное место, на котором стояли два кресла из слоновой кости с золотою насечкою. На улице, ведущей к княжескому двору, теснилось множество народа и горели огни разноцветные.
Наконец зазвучали бубны — представилось зрелище восхитительное: сто красавиц, цветущих, как весенние розы, идут попарно, среди восхищенной толпы киевлян, ко дворцу великого князя; каждая из них имеет при себе прислужницу: Людмила сопутствует Пересвете и Мирославе.
Людмила одета была в белое платье и опоясана своим поясом; русые волосы ее, заплетенные косою, были перевиты простою лентою. Она приближилась с сильным трепетом сердца к палате князя Владимира, села позади своих подруг и с тайным, робким предчувствием смотрела на дверь, в которую должны были войти великий князь Владимир и сын его Святослав прекрасный.
Долго царствовала глубокая тишина в княжеской палате. Вдруг заиграла военная музыка; двери растворились с шумом; входят попарно бояре и богатыри, одни в богатых парчовых платьях, другие в великолепных военных доспехах, в золотых кольчугах, в блестящих шлемах, осененных белыми перьями. Они разделяются и становятся по обеим сторонам княжеского трона. Утихает бранная музыка; играют нежные флейты; все глаза обращены на отверстые двери; вдруг является князь Владимир в богатом княжеском уборе; он ведет за руку молодого Святослава, одетого просто, с открытою головою, с разбросанными по плечам светло-русыми кудрями, прелестного, цветущего молодостию; на щеках его играл румянец, свежий, как весенняя роза; в глазах, больших, черных и осененных густыми ресницами, сияло нежное пламя; стан его был гибок и строен, походка величественна, все движения приятны.
Ах, Людмила, бедная Людмила, что сделалось с твоим сердцем при первом взгляде на прекрасного юношу?
«Для чего я не красавица, для чего я не богата?» — подумала она, вздохнула, опустила глаза на грудь свою, которая волновалась сильнее прежнего, но скоро опять, против воли, устремила их на прелестного князя, который стоял один, посреди обширной палаты, прекрасный, как ангел в виде человека… Но что же она почувствовала?.. Вся душа ее пришла в волнение… глаза ее встретились с глазами прекрасного Святослава. О небо, он подходит к ней! Мирослава и Пересвета встают, думая, что выбор должен пасть на одну из них… Святослав подает руку Людмиле.
— Вот она, — говорит он, — вот та, которая представлялась душе моей и наяву и в мечтах сновидения. Ей отдаю и руку и сердце.
Людмила едва не лишилась памяти; она не верила своим ушам, трепетала, бледнела, краснела… Святослав подводит нареченную свою невесту к великому князю Владимиру, потом сажает ее подле его на кресло из слоновой кости с золотою насечкою.
В палате послышался ропот.
— Какой выбор! — шептали оскорбленные красавицы, смотря на скромную Людмилу, одетую просто и совсем не имущую красоты блестящей.
Пересвета и Мирослава были вне себя от досады и зависти.
— Кто бы это подумал, — говорили они одна другой, — нам предпочесть Людмилу; какое ослепление!
Мужчины также смотрели на Людмилу, но чувства их были другого рода.
— Как она прелестна! — восклицали и старики и молодые. — Какая привлекательная скромность, какой невинный взгляд, какая нежная, милая душа изображается на лице ее, приятном, как душистая маткина-душка!
Людмила сама не понимала того нежного чувства, которым наполнено было ее сердце; она не смела взглянуть на прекрасного князя Святослава и еще более украшала себя милым своим смятением. Святослав пожимал ее руку и ободрял ее пламенным своим взглядом.
Но великий князь Владимир начал говорить, и все утихло.
— Сын мой, — сказал он прекрасному Святославу, — твой выбор приятен моему родительскому сердцу, но красота не одно достоинство супруги; хочу, чтобы она соединена была с качествами и дарованиями более надежными. Избранная тобою невеста превосходит всех других прелестями лица; посмотрим, сравняются ли они с нею дарованиями и умом.
Людмила побледнела, услышав слова великого князя Владимира.
— Ах! — воскликнула она. — Я ничему не училась! Это минутное торжество послужит только к тому, чтобы доказать всему свету мое невежество. Отпусти меня, великий князь Владимир; я пришла сюда не для того, чтобы оспаривать у других, более достойных, то счастие, для которого я не рождена судьбою; я пришла насладиться счастием милых подруг моих. Отпусти меня, мой жребий скрываться в бедной хижине, ходить за цветами, довольствоваться уделом низким и никогда не мечтать о пышном троне.
Князь Владимир посмотрел с улыбкою благоволения на скромную Людмилу и приказал ей остаться на своем месте.
Приносят стройные гусли. Все красавицы, каждая в свою очередь, пели песни в похвалу храбрых витязей или в похвалу нежной любви; каждая изображала то чувство, которое влекло ее душу к прекрасному князю Святославу.
Пришла очередь Людмилы; она бледнеет, трепещет; вдруг кто-то невидимый шепчет ей на ухо:
— Людмила, ободрись; хранительные взоры мои над тобою, спой ту песню, которою научила тебя твоя мать; ты еще не знаешь, какими дарованиями наградила тебя природа.
Людмила узнает голос благодетельной волшебницы, той старушки, которая подарила ей пояс. Она идет к гуслям, садится… О чудо! пальцы ее с легкостию ветерка летают по струнам; голос ее имеет чистоту и звонкость соловьиного: он льется в душу, он возбуждает в ней сладкое восхищение, погружает ее в задумчивость, производит в ней томную мечтательность. Людмила поет ту песню, которую мать певала, качая ее в колыбели:
«Роза, весенний цвет,
Скройся под тень
Рощи развестистой.
Бойся лучей
Солнца палящего,
Нежный цветок!»
Так мотылек златой
Розе шептал.
Розе невнятен был
Скромный совет;
Роза пленяется
Блеском одним!
«Солнце блестящее
Любит меня;
Мне ли, красавице,
Тени искать?»
Гордость безумная!
Бедный цветок!
Солнце рассыпало
Гибельный луч;
Роза поникнула
Пышной главой,
Листья поблекнули,
Запах исчез.
Девица красная,
Нежный цветок!
Розы надменныя
Помни пример.
Маткиной-душкою
Скромно цвети,
С мирной невинностью
Цветом души.
Данный судьбиною
Скромный удел,
Девица красная,
Счастье твое!
В роще скрывался,
Ясный ручей,
Бури не ведая,
Мирно журчит!
Людмила замолчала, но голос ее отдавался еще в сердцах слушателей. Молодой князь, в неописуемом восхищении, прижимает ее к сердцу:
— Нет, ты не можешь быть смертная; ты ангел, слетевший с неба для того, чтобы сделать счастливым Святослава!
— Ах! я бедная Людмила; сама не постигаю того, что делается со мною; какое-нибудь очарование ослепило ваши взоры. Вы думаете, что я красавица; это обман, я никогда не бывала прекрасною. Святослав, ты хочешь возвести меня на трон, но я рождена поселянкою, рождена для бедной и неизвестной хижины.
Опять заиграла музыка, и началась пляска. Соперницы Людмилы очаровали зрителей своими приятными движениями, своею легкостию, своею быстротою; но Людмила, снова ободренная голосом волшебницы, затмила искусство прелестию простоты: во всех ее движениях было что-то очаровательное — скромность, соединенная с милой веселостию. Она являла глазам невинность, играющую с удовольствием; зрители не могли довольно на нее насмотреться; сердца летели за нею вслед… Но музыка замолчала… Людмила, с потупленными глазами, с разгоревшимся румянцем на щеках, села на свое место, не смела радоваться, не смела взглянуть на Святослава прекрасного.
Давно уже прошла половина ночи. Великий князь берет Святослава за руку, и они выходят из палаты с боярами и богатырями; красавицы удалились, — но еще испытание не окончилось: оно должно было продолжаться три дни сряду.
Людмилу отвели в дворцовый терем, убранный великолепно; приставили к ней множество прислужниц. Она осталась одна, погруженная в задумчивость, с новыми, доселе незнакомыми ей чувствами и с милым образом прелестного Святослава в душе своей.
И мы, оставя на время Людмилу, вспомним о двух подругах ее, Пересвете и Мирославе.
— Могли ли мы это вообразить! — сказала Мирослава Пересвете, возвратившись с нею домой. — Нам предпочесть Людмилу! Конечно, они слепы. Нельзя, чтобы это было естественно! Как ты думаешь, Пересвета? Не скрывается ли какой-нибудь талисман в том поясе, который подарила ей старая волшебница? Будучи к нам столь щедрою, могла ли она позабыть Людмилу? Конечно, простой ее пояс драгоценнее наших, осыпанных жемчугом и алмазами. Заметила ли ты, как он блистал на ней вчера ввечеру?
— Так, Мирослава, ты говоришь правду: Людмила имеет талисман, которому сама не знает цены; должно его похитить. Тогда увидим, помрачит ли она и тебя и меня своими дарованиями, своею красотою.
На другой день рано поутру Пересвета и Мирослава идут в терем Людмилы; она бросается к ним в объятья, целует их с восторгом и краснеет, внимая неискренним их поздравлениям.
— Милые подруги, — говорит им скромная Людмила, — сама стыжусь тех почестей, которыми вчера была я осыпана; сама не понимаю, как могли предпочесть меня, бедную, некрасивую Людмилу, вам, прекрасным, богатым, достойным всякого предпочтения.
— Добрая Людмила, — отвечала Мирослава, — странное для тебя кажется для нас весьма естественным; мы не завидуем, но искренно радуемся твоему счастию. Время открыть тебе глаза: перестань почитать себя не красавицею. Бог наградил тебя лицом прелестным; из любви к тебе называли мы тебя дурною: похвалы могли бы испортить твое невинное сердце. Теперь притворство бесполезно, и тебе наконец должно узнать, милая Людмила, что ты превосходишь всех других женщин красотою, любезностию, дарованиями.
— Сестрицы, не смеетесь ли вы надо мною?
— Ах, мой друг, как можешь это о нас подумать? Мы говорим истинную правду. Но позволь нам сделать тебе одно дружеское замечание: ты имеешь два недостатка, весьма важных и препятствующих воспользоваться дарами природы, ты слишком застенчива и слишком небрежна в своей одежде. Нынче ввечеру опять будем представлены великому князю Владимиру и сыну его, Святославу прекрасному; говорят, что в Киев приехала какая-то псковитянка, ангел красотою и чрезвычайно искусная в одежде; бойся, чтобы она не похитила у тебя любви прекрасного Святослава; нарядись как можно лучше. Красоте твоей прилична и одежда пышная; мы принесли тебе на выбор несколько платьев. Надень то, которое покажется тебе к лицу, и мы будем радоваться твоей победе.
Мирослава и Пересвета расстилают перед глазами Людмилы несколько великолепных уборов. Новое чувство родилось в душе невинной девушки; она вообразила себя первою красавицею во всей русской земле и покраснела, взглянувши на простой и бедный убор свой. Она примеряла принесенные платья одно за другим; выбрала самое великолепное; хотела надеть богатый пояс сверх белой ленты, которую получила в подарок от старушки, но, по несчастию, пояс был слишком мал. Пересвета и Мирослава уговаривают ее пожертвовать бедною лентою пышному жемчужному поясу. Людмила колеблется. Наконец уступает их требованиям, отдает Пересвете белую ленту и надевает жемчужный пояс.
— Какой стройный, прелестный стан! — восклицают обе подруги. — Эта псковитянка явилась в Киев только для того, чтобы сделать еще славнее торжество нашей Людмилы. Прости, милая подруга, ввечеру увидимся во дворце князя Владимира.
Они разлучились. Людмила, в восхищении от нового богатого убора, любуется на самою себя в зеркало, примеривает жемчужный пояс, и белая лента совсем забыта.
Ах, Людмила, и ты занимаешься красотою своею, как суетная, надменная прелестница, и ты смотришься в зеркало, а прежде в светлый ручей смотрела ты только для того, чтобы любоваться его чистотою, легкими струйками и блестящими камушками, на дне его рассыпанными.
Наконец наступила желанная минута. Красавицы, бояре и богатыри стекаются в палату великого князя Владимира. Святослав прекрасный с волнением сердца смотрит на дверь, в которую должна войти Людмила; раздаются приятные звуки флейты; входит Людмила, покрытая белым покрывалом и окруженная множеством прислужниц, богато одетых. Святослав летит к ней навстречу, нетерпеливою рукою срывает с головы ее белый покров… Боже, какая перемена! Он не узнает Людмилы.
— Что вижу! — восклицает изумленный Святослав. — Кто ты, незнакомка, и где моя Людмила?
— Я Людмила; ужели ты не узнал меня, Святослав прекрасный?
— Ты Людмила? Не может быть, это обман!
Ропот негодования послышался в княжеской палате; никто не узнает Людмилы.
Святослав удалился; он ищет смятенными взорами в толпе красавиц Прекрасной девицы, пленившей его душу, но князь Владимир подымает руку, и все опять умолкло.
— Ты называешь себя Людмилою, — говорит он Людмиле, трепещущей и печальной, — верю твоим словам; верю, что красота твоя могла измениться в течение одного дня, но дарования твои должны быть неизменны. Подайте гусли; садись и спой нам ту самую песню, которую ты пела вчера.
Людмила, несколько ободренная, подходит к гуслям… О чудо! Пальцы ее неподвижны, голос дик и неприятен.
Князь Владимир в великом гневе встает с престола, приказывает Людмиле удалиться; испытание отложено до следующего вечера.
Что сделалось с тобою, несчастная, добросердечная Людмила? Ты плачешь, ты мучиться отчаянием, ты страждешь безнадежною любовию! Где твое прежнее спокойствие, где прежняя беспечность невинной души твоей? Сиротка, заливаясь слезами, оставляет Киев и спешит укрыться в бедную хижину, на берег светлого источника, под сень развесистых берез, в которых провела она цветущую свою молодость.
«Зачем, зачем я оставила тебя, спокойная моя хижина!» — так думала бедная Людмила, идя через рощу по знакомой излучистой тропинке.
Приближается к хижине и видит, что в ней горит огонь, испугалась, не знает, войти ли в нее или нет. Наконец решилась, отворяет дверь: что же? В хижине сидит старушка волшебница, ее знакомка. Людмила остолбенела от удивления, несколько минут не говорила ни слова; наконец пришла в себя и залилась горькими слезами.
— Ах! — сказала она старушке. — Ты одна причиною моего несчастия! Для чего погибельным своим очарованием возвела ты меня вчера на трон, которого я не искала, о котором никогда не могла думать, и для чего теперь, когда пленительная надежда ослепила мою душу, когда любовь, произведенная тобою в моем сердце, сделалась для меня драгоценнее и самих почестей трона, я вдруг лишена всего, покрыта стыдом, и от кого же? От тебя, которой я не сделала никакого зла, которой, напротив, хотела сделать добро, не ожидая никакой за то награды! Ах, для чего обольстила ты глаза прекрасного Святослава? Для чего вложила мне в душу безнадежную любовь? Что ты будешь теперь, бедная Людмила, в своей уединенной хижине? Прекрасные места, в которых я родилась и провела мою молодость, теперь вы для меня темница! Душа моя в стенах пышного града Киева. Никогда не забуду о том, чего я лишилась, чем обладала одну минуту. Какое земное счастие может служить заменою того милого взора, который устремил на меня Святослав прекрасный, которым воспламенилось мое сердце, прежде спокойное, прежде веселое. Ах, душистые мои цветы, вы увянете, кто будет вас поливать, кто будет за вами смотреть? Милые голосистые птички, вы перестанете слетаться к моей хижине; кто будет приносить вам зерна и вторить вам своею веселою песенкою? Буду сидеть на большой дороге, смотреть на отдаленный Киев-град и посылать в него свою душу. Что сделала я тебе, волшебница, чем навлекла на себя твое гонение?
— Выслушай меня, добросердечная Людмила, — отвечала волшебница, — мне легко перед тобой оправдаться. Я полюбила тебя с первого взгляда и в знак благодарности подарила тебе очарованный пояс, который имеет силу украшать всякую женщину. Девушка, обладающая им, торжествует над всеми своими соперницами, имеет все приятности, все дарования; но без него и приятности и дарования сии теряют всю свою силу: им удивляются, но перестают их любить. Для чего же, Людмила, не сберегла ты данного мною тебе сокровища? Для чего пояс скромности променяла на пояс суетности? Лишась талисмана, которому ты была обязана своим торжеством, ты потеряла и прелести, с ним соединенные; самые взоры твоего любовника не могли узнать тебя в новом твоем наряде.
— Ах! — воскликнула Людмила. — Бедная, жалкая моя участь, я сама всему причиною, сама лишила себя своего счастия! Нет, уж никогда не видать мне прежнего времени. Улетело веселие души моей; умчались вы, прежние мои радости; никогда не переставать мне обливаться слезами: другая овладеет теперь душою Святослава прекрасного.
Людмила закрыла обеими руками лицо свое и плакала горько.
— Утешься, мой друг, — сказала волшебница, взяв ее за руку с нежною улыбкою, — тебя обманули твоя неопытность и хитрость завистливых твоих подруг, Мирославы и Пересветы, но ты невинна в сердце. Возвращаю тебе потерянный пояс. Я следовала невидимо за Пересветою и Мирославою, когда они пошли от тебя со своею добычею. Между ними начался ужасный спор: каждая хотела иметь пояс, но он не достался ни одной: я унесла его и теперь возвращаю той, которая одна достойна обладать им по своему добросердечию и своей скромности.
Людмила бросилась целовать руки благодетельной волшебницы, которая обтерла ей слезы, поцеловала ее в розовые щеки и опоясала своею очарованною лентою.
Вдруг, по слову волшебницы, кровля низенькой хижины расступилась; глазам изумленной Людмилы предстала великолепная колесница, в которую запряжены были два оленя с серебряной шерстию, с золотыми рогами и крыльями. На месте безобразной старушки явилась молодая женщина восхитительной красоты, одетая в очарованную одежду, из розовых лучей сотканную, и опоясанная белым поясом, на котором блистали золотые знаки зодиака. Добрада — так называлась волшебница посадила Людмилу в колесницу; златорогие олени распустили свои золотые крылья, и менее нежели в миг колесница очутилась перед стенами великолепного Киева. Волшебница привела Людмилу в уединенный терем, запретила ей выходить из него до наступления вечера, благословила ее и скрылась.
Наступил вечер. Людмила, одетая очень просто, опоясанная белою лентою, вошла в палату великого князя Владимира и села на прежнее свое место, позади Пересветы и Мирославы. Они ее не приметили; они смеялись между собою над глупою ее легковерностию и говорили друг другу о гордых своих надеждах. Но Людмила не думала о них; взоры ее видели одного Святослава.
Он сидел подле великого князя Владимира на креслах из слоновой кости с золотою насечкою, задумавшись, склонивши на руку свою голову, не удостаивая ни одним взглядом окружавших его красавиц: душа его требовала одной Людмилы, один очаровательный образ Людмилы носился перед ним как милый, пленительный призрак потерянного блаженства!
Вдруг — о радость! — он видит ее на том же самом месте, на котором увидел в первый раз, в той же простой одежде; видит ее, с сердечною, нежною любовию устремившую на него свои взоры.
— О Людмила! — восклицает он и бросается перед нею на колена.
— Да здравствует прелестная Людмила! — воскликнули единогласно бояре, богатыри и витязи.
Святослав, вне себя от восхищения, прижимает к сердцу милую свою невесту, которая со своим потупленным взором, с пылающими щеками своими казалась ангелом красоты и непорочности, подводит ее к престолу великого князя Владимира и сажает по правую руку его на кресла из слоновой кости с золотою насечкою.
Пересвета и Мирослава побледнели от зависти и досады.
Заиграла музыка, и все опять должны были уступить Людмиле в искусстве пляски и пения. Опять затмила она своих соперниц, которые все единодушно, выключая одних Пересветы и Мирославы, согласились признать ее победительницею и даже радовались ее победе: столь сильны очарования скромной красоты, добродушия, непорочности.
Вдруг раздается в палате пронзительный вопль… Что такое? Страшные змеи с отверстою пастию, с острым жалом, с горящими глазами обвились вокруг Пересветы и Мирославы вместо жемчужных поясов. Людмила бросается к ним на помощь, желает спасти их от угрызения сих страшных чудовищ; ее усилия напрасны. Зрители цепенеют от ужаса. Вдруг послышалось тихое пение, соединенное со звуками магических струн; в воздухе распространился приятный запах роз и полевых фиалок; предстала волшебница Добрада, окруженная тихим розовым сиянием.
Людмила бросилась перед нею на колена.
— Спаси Пересвету и Мирославу! — воскликнула она, простирая к ней руки.
— Добрая Людмила, — отвечала волшебница, — соглашаюсь простить им из любви к тебе. Змеи, которыми они обвиты, суть ядовитые змеи самолюбия и зависти. Прикоснись к ним своею белою лентою, и они исчезнут.
Людмила исполнила приказание Добрады, и змеи исчезли. Пересвета и Мирослава кинулись в объятия своей добросердечной подруги; они поклялись питать к ней искреннюю дружбу; они полюбили ту, которую за минуту ненавидели, которую желали ввергнуть в погибель.
Великий князь Владимир благословил своего сына и Людмилу.
— О Святослав, — сказала прелестная невеста прелестному жениху своему, показывая на волшебницу Добраду, — вот моя благодетельница, вот та, которой обязана я твоим сердцем! Ах, за три дни перед сим была я не иное что, как бедная Людмила, простая поселянка, но теперь… Нет, никогда не была бы я замечена взорами Святослава прекрасного, когда бы могущество благодетельной Добрады не украсило меня теми приятностями, теми дарованиями, в которых мне отказала природа. Так, Святослав, в этом очарованном поясе заключены и красота моя, и все мои таланты.
Скромное сие признание украсило еще более в глазах Святослава его прелестную Людмилу.
— Друг мой, — сказала Добрада, — храни этот пояс, драгоценный дар моей дружбы; ничто не может лучше его украсить женщины, где бы она ни была, в бедной ли хижине, в чертогах ли княжеских; нося его, ты будешь обожаема своим супругом, своими друзьями и подданными, обожаема до последней минуты.
Добрада исчезла.
Нужно ли сказывать о том, что случилось после? И можно ли вообразить, чтобы Святослав не был счастлив, обладая Людмилою?
Тюльпанное дерево
Однажды жил, не знаю где, богатый
И добрый человек. Он был женат
И всей душой любил свою жену;
Но не было у них детей; и это
Их сокрушало, и они молились,
Чтобы господь благословил их брак;
И к господу молитва их достигла.
Был сад кругом их дома; на поляне
Там дерево тюльпанное росло.
Под этим деревом однажды (это
Случилось в зимний день) жена сидела
И с яблока румяного ножом
Снимала кожу; вдруг ей острый нож
Легонько палец оцарапал; кровь
Пурпурной каплею на белый снег
Упала; тяжело вздохнув, она
Подумала: «О! если б бог нам дал
Дитя, румяное, как эта кровь,
И белое, как этот чистый снег!»
И только что она сказала это, в сердце
Ее как будто что зашевелилось,
Как будто из него утешный голос
Шепнул ей: «Сбудется». Пошла в раздумье
Домой. Проходит месяц — снег растаял;
Другой проходит — все в лугах и рощах
Зазеленело; третий месяц миновался
Цветы покрыли землю, как ковер;
Пропал четвертый — все в лесу деревья
Срослись в один зеленый свод, и птицы
В густых ветвях запели голосисто,
И с ними весь широкий лес запел.
Когда же пятый месяц был в исходе
Под дерево тюльпанное она
Пришла; оно так сладко, так свежо
Благоухало, что ее душа
Глубокою, неведомой тоскою
Была проникнута; когда шестой
Свершился месяц — стали наливаться
Плоды и созревать; она же стала
Задумчивей и тише; наступает
Седьмой — и часто, часто под своим
Тюльпанным деревом она одна
Сидит и плачет, и ее томит
Предчувствие тяжелое; настал
Осьмой — она в конце его больная
Слегла в постелю и сказала мужу
В слезах: «Когда умру, похорони
Меня под деревом тюльпанным»; месяц
Девятый кончился — и родился
У ней сынок, как кровь румяный, белый
Как снег; она ж обрадовалась так,
Что умерла. И муж похоронил
Ее в саду, под деревом тюльпанным.
И горько плакал он об ней; и целый
Проплакал год; и начала печаль
В нем утихать; и наконец утихла
Совсем; и он женился на другой
Жене и скоро с нею прижил дочь.
Но не была ничем жена вторая
На первую похожа; в дом его
Не принесла она с собою счастья.
Когда она на дочь свою родную
Смотрела, в ней смеялася душа;
Когда ж глаза на сироту, на сына
Другой жены, невольно обращала,
В ней сердце злилось: он как будто ей
И жить мешал; а хитрый искуситель
Против него нашептывал всечасно
Ей злые замыслы. В слезах и в горе
Сиротка рос, и ни одной минуты
Веселой в доме не было ему.
Однажды мать была в своей каморке,
И перед ней стоял сундук открытый
С тяжелой, кованной железом кровлей
И с острым нутряным замком: сундук
Был полон яблок. Тут сказала ей
Марлиночка (так называли дочь):
«Дай яблочко, родная, мне». — «Возьми»,
Ей отвечала мать. «И братцу дай»,
Прибавила Марлиночка. Сначала
Нахмурилася мать; но враг лукавый
Вдруг что-то ей шепнул; она сказала:
«Марлиночка, поди теперь отсюда;
Обоим вам по яблочку я дам,
Когда твой брат воротится домой».
(А из окна уж видела она,
Что мальчик шел, и чудилося ей,
Что будто на нее с ним вместе злое
Шло искушенье). Кованый сундук
Закрыв, она глаза на двери дико
Уставила; когда ж их отворил
Малютка и вошел, ее лицо
Белее стало полотна; поспешно
Она ему дрожащим и глухим
Сказала голосом: «Вынь для себя
И для Марлиночки из сундука
Два яблока». При этом слове ей
Почудилось, что кто-то подле громко
Захохотал; а мальчик, на нее
Взглянув, спросил: «Зачем ты на меня
Так страшно смотришь?» — «Выбирай скорее!»
Она, поднявши кровлю сундука,
Ему сказала, и ее глаза
Сверкнули острым блеском. Мальчик робко
За яблоком нагнулся головой
В сундук; тут ей лукавый враг шепнул:
«Скорей!» И кровлею она тяжелой
Захлопнула сундук, и голова
Малютки, как ножом, была железным
Отрезана замком и, отскочивши,
Упала в яблоки. Холодной дрожью
Злодейку обдало. «Что делать мне?»
Подумала она, смотря на страшный
Захлопнутый сундук. И вот она
Из шкапа шелковый платок достала
И, голову отрезанную к шее
Приставив, тем платком их обвила
Так плотно, что приметить ничего
Не можно было, и потом она
Перед дверями мертвого на стул
(Дав в руки яблоко ему и к стенке
Его спиной придвинув) посадила;
И наконец, как будто не была
Ни в чем, пошла на кухню стряпать. Вдруг
Марлиночка в испуге прибежала
И шепчет: «Посмотри туда; там братец
Сидит в дверях на стуле; он так бел
И держит яблоко в руке; но сам
Не ест; когда ж его я попросила,
Чтоб дал мне яблоко, не отвечал
Ни слова, не взглянул; мне стало страшно».
На то сказала мать: «Поди к нему
И попроси в другой раз; если ж он
Опять ни слова отвечать не будет
И на тебя не взглянет, подери
Его покрепче за ухо: он спит».
Марлиночка пошла и видит: братец
Сидит в дверях на стуле, бел как снег;
Не шевелится, не глядит и держит,
Как прежде, яблоко в руках, но сам
Его не ест. Марлиночка подходит
И говорит: «Дай яблочко мне, братец».
Ответа нет. Тут за ухо она
Тихонько братца дернула; и вдруг
От плеч его отпала голова
И покатилась. С криком прибежала
Марлиночка на кухню: «Ах! родная,
Беда, беда! Я братца моего
Убила! Голову оторвала
Я братцу!» И бедняжка заливалась
Слезами и кричала криком. Ей
Сказала мать: «Марлиночка, уж горю
Не пособить; нам надобно скорей
Его прибрать, пока не воротился
Домой отец; возьми и отнеси
Его покуда в сад и спрячь там; завтра
Его сама в овраг я брошу; волки
Его съедят, и косточек никто
Не сыщет; перестань же плакать; делай,
Что я велю». Марлиночка пошла;
Она, широкой белой простынею
Обвивши тело, отнесла его,
Рыдая, в сад и там его тихонько
Под деревом тюльпанным положила
На свежий дерн, который покрывал
Могилку матери его… И что же?
Могилка вдруг раскрылася и тело
Взяла, и снова дерн зазеленел
На ней, и расцвели на ней цветы,
И из цветов вдруг выпорхнула птичка,
И весело запела, и взвилась
Под облака, и в облаках пропала.
Марлиночка сперва оторопела;
Потом (как будто кто в ее душе
Печаль заговорил) ей стало вдруг
Легко — пошла домой и никому
О бывшем с нею не сказала. Скоро
Пришел домой отец. Не видя сына,
Спросил он с беспокойством: «Где он?» Мать,
Вся помертвев, поспешно отвечала:
«Ранехонько ушел он со двора
И все еще не возвращался». Было
Уж за полдень; была пора обедать,
И накрывать на стол хозяйка стала.
Марлиночка ж сидела в уголку,
Не шевелясь и молча; день был светлый;
Ни облачка на небе не бродило,
И тихо блеск полуденного солнца
Лежал на зелени дерев, и было
Повсюду все спокойно. Той порою
Спорхнувшая с могилы братца птичка
Летала да летала; вот она
На кустик села под окошком дома,
Где золотых дел мастер жил. Она,
Расправив крылышки, запела громко:
«Зла мачеха зарезала меня;
Отец родной не ведает о том;
Сестрица же Марлиночка меня
Близ матушки родной моей в саду
Под деревом тюльпанным погребла».
Услышав это, золотых дел мастер
В окошко выглянул; он так пленился
Прекрасною птичкою, что закричал:
«Пропой еще раз, милая пичужка!»
«Я даром дважды петь не стану, — птичка
Сказала, — подари цепочку мне,
И запою». Услышав это, мастер
Богатую ей бросил из окна
Цепочку. Правой лапкою схвативши
Цепочку ту, свою запела песню
Звучней, чем прежде, птичка и, допевши,
Спорхнула с кустика с своей добычей,
И полетела далее, и скоро
На кровле домика, где жил башмачник,
Спустилася и там опять запела:
«Зла мачеха зарезала меня;
Отец родной не ведает о том;
Сестрица же Марлиночка меня
Близ матушки родной моей в саду
Под деревом тюльпанным погребла».
Башмачник в это время у окна
Шил башмаки; услышав песню, он
Работу бросил, выбежал во двор
И видит, что сидит на кровле птичка
Чудесной красоты. «Ах! птичка, птичка,
Сказал башмачник, — как же ты прекрасно
Поешь. Нельзя ль еще раз ту же песню
Пропеть?» — «Я даром дважды не пою,
Сказала птичка, — дай мне пару детских
Сафьянных башмаков». Башмачник тотчас
Ей вынес башмаки. И, левой лапкой
Их взяв, свою опять запела песню
Звучней, чем прежде, птичка и, допевши,
Спорхнула с кровли с новою добычей,
И полетела далее, и скоро
На мельницу, которая стояла
Над быстрой речкою во глубине
Прохладныя долины, прилетела.
Был стук и шум от мельничных колес,
И с громом в ней молол огромный жернов;
И в воротах ее рубили двадцать
Работников дрова. На ветку липы,
Которая у мельничных ворот
Росла, спустилась птичка и запела:
«Зла мачеха зарезала меня»;
Один работник, то услышав, поднял
Глаза и перестал рубить дрова.
«Отец родной не ведает о том»;
Оставили еще работу двое.
«Сестрица же Марлиночка меня»;
Тут пятеро еще, глаза на липу
Оборотив, работать перестали.
«Близ матушки родной моей в саду»;
Еще тут восемь вслушалися в песню;
Остолбеневши, топоры они
На землю бросили и на певицу
Уставили глаза; когда ж она
Умолкнула, последнее пропев:
«Под деревом тюльпанным погребла»;
Все двадцать разом кинулися к липе
И закричали: «Птичка, птичка, спой нам
Еще раз песенку твою». На это
Сказала птичка: «Дважды петь не стану
Я даром; если же вы этот жернов
Дадите мне, я запою». — «Дадим,
Дадим!» — в один все голос закричали.
С трудом великим общей силой жернов
Подняв с земли, они его надели
На шею птичке; и она, как будто
В жемчужном ожерелье, отряхнувшись
И крылышки расправивши, запела
Звучней, чем прежде, и, допев, спорхнула
С зеленой ветви и умчалась быстро,
На шее жернов, в правой лапке цепь
И в левой башмаки. И так она
На дерево тюльпанное в саду
Спустилась. Той порой отец сидел
Перед окном; по-прежнему в углу
Марлиночка; а мать на стол сбирала
«Как мне легко! — сказал отец. — Как светел
И тепел майский день!» — «А мне, — сказала
Жена, — так тяжело, так душно!
Как будто бы сбирается гроза».
Марлиночка ж, прижавшись в уголок,
Не шевелилася, сидела молча
И плакала. А птичка той порой,
На дереве тюльпанном отдохнувши,
Полетом тихим к дому полетела.
«Как на душе моей легко! — опять
Сказал отец. — Как будто бы кого
Родного мне увидеть». — «Мне ж, — сказала
Жена, — так страшно! Все во мне дрожит;
И кровь по жилам льется как огонь».
Марлиночка ж ни слова; в уголку
Сидит, не шевелясь, и тихо плачет.
Вдруг птичка, к дому подлетев, запела:
«Зла мачеха зарезала меня»;
Услышав это, мать в оцепененье
Зажмурила глаза, заткнула уши,
Чтоб не видать и не слыхать; но в уши
Гудело ей, как будто шум грозы,
В зажмуренных глазах ее сверкало,
Как молния, и пот смертельный тело
Ее, как змей холодный, обвивал.
«Отец родной не ведает о том».
«Жена, — сказал отец, — смотри, какая
Там птичка! Как поет! А день так тих,
Так ясен и такой повсюду запах,
Что скажешь: вся земля в цветы оделась.
Пойду и посмотрю на эту птичку».
«Останься, не ходи, — сказала в страхе
Жена. — Мне чудится, что весь наш дом
В огне». Но он пошел. А птичка пела:
«Близ матушки родной моей в саду
Под деревом тюльпанным погребла».
И в этот миг цепочка золотая
Упала перед ним. «Смотрите, — он
Сказал, — какой подарок дорогой
Мне птичка бросила». Тут не могла
Жена от страха устоять на месте
И начала как в исступленье бегать
По горнице. Опять запела птичка:
«Зла мачеха зарезала меня».
А мачеха бледнела и шептала:
«О! если б на меня упали горы,
Лишь только б этой песни не слыхать!»
«Отец родной не ведает о том»;
Тут повалилася она на землю,
Как мертвая, как труп окостенелый.
«Сестрица же Марлиночка меня…»
Марлиночка, вскочив при этом с места,
Сказала: «Побегу, не даст ли птичка
Чего и мне». И, выбежав, глазами
Она искала птички. Вдруг упали
Ей в руки башмаки; она в ладоши
От радости захлопала. «Мне было
До этих пор так грустно, а теперь
Так стало весело, так живо!»
«Нет, — простонала мать, — я не могу
Здесь оставаться; я задохнусь; сердце
Готово лопнуть». И она вскочила;
На голове ее стояли дыбом,
Как пламень, волосы, и ей казалось,
Что все кругом ее валилось. В двери
Она в безумье кинулась… Но только
Ступила за порог, тяжелый жернов
Бух!.. и ее как будто не бывало;
На месте же, где казнь над ней свершилась,
Столбом огонь поднялся из земли.
Когда ж исчез огонь, живой явился
Там братец; и Марлиночка к нему
На шею кинулась. Отец же долго
Искал жены глазами; но ее
Он не нашел. Потом все трое сели;
Усердно богу помолясь, за стол;
Но за столом никто не ел, и все
Молчали; и у всех на сердце было
Спокойно, как бывает всякий раз,
Когда оно почувствует живей
Присутствие невидимого бога.
|