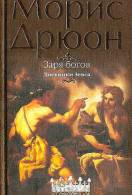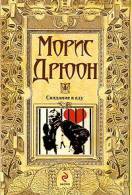Морис Дрюон. Дневники Зевса
Греческому народу сквозь его века с благодарностью
Предисловие
Мне понадобилось четыре года, чтобы закончить «Мемуары Зевса». Сейчас, когда одновременно с новым изданием первого тома появилась вторая часть, дополняющая и завершающая произведение, представляется нелишним уточнить его общий замысел.
Я знаю, кое-кто из читателей был несколько смущен древнегреческой мифологической терминологией, по преимуществу употребляемой мной вместо латинской, более для нас привычной. Решился я на это не без размышлений. Я бы и сам охотно назвал олицетворение власти скорее Юпитером, нежели Зевсом, олицетворение войны скорее Марсом, нежели Аресом, олицетворение труда — Вулканом, а не Гефестом. Но латинская мифология относительно скудна, ограниченна, в немалой степени состоит из частичных ассимиляций. Ведь в первую очередь она предназначалась для поддержки общественного устройства, а вовсе не для того, чтобы стать основой системы всеобъемлющего мышления. Кто желает — а в том и состоит мое предложение — понять, как древние представляли себе Вселенную и место человека в этой Вселенной, тот должен обратиться к греческой мифологии как наиболее близкой из всех развитых теогоний, что стали истоками западной мысли.
Я знаю, что иные читатели, поощренные нарочито «игривым» тоном некоторых глав, сочли книгу просто литературной забавой, эдаким набором намеков на наши школьные воспоминания. А все из-за того, что о древних религиях судят слишком однобоко, забывая, что в них было немало жизнерадостного. Античность ведь не знала понятия первородного греха, которое, как только речь заходит о божественном, требует от нас серьезного и почтительного тона. Для древних, поскольку боги пребывали в этом мире вместе с ними, участвуя в его делах и как бы составляя его основу, было естественным вводить в свои мифы иронию, а то и фарс без ущерба для глубины или смысла. Так что я всего лишь вдохновлялся вечными образцами. Мифология — это роман, первый роман, роман о Вселенной, в котором, как и в любом романе, есть и драматические моменты, и смешные, есть конфликты, счастье, нравственные проблемы и веления судеб.
Также я знаю из массы отзывов: то, что мне хотелось выразить, было услышано многими. Ни одна из моих книг не приносила мне столько разнообразных и волнующих откликов. Узнать, что она побудила молодого человека изучать древнегреческий, молодой женщине помогла примириться с жизнью, а некий физик-рационалист нашел в ней созвучие тому, чем занимается сам, — такое, помимо всего прочего, доказывает писателю, что никакие усилия не будут чрезмерными для выполнения его замысла.
С самой большой трудностью я столкнулся, пытаясь воссоздать хронологию мифов. Действительно, нигде, кроме как у Гесиода, и то частично, мифологические факты не излагаются последовательно и взаимосвязанно. Это не смущало античного человека, для которого отдельный миф, рассказанный в поэме, трагедии, сатире, диалоге, немедленно занимал место в общей системе, очень крепкой и связной. Для нас же, чей ум с раннего детства формировался на других основах, мифы предстают некой россыпью сказок, слабо или произвольно соединенных между собой. Я попытался сделать связи между ними более заметными, плотнее подогнать их друг к другу. При этом стало очевидно, что эллинская мифология повествует сначала о возникновении мира и лишь потом о его доисторических временах.
Другая трудность проистекает из того, что древние авторы с крайней вольностью использовали мифы, обогащая их в меру своего поэтического вдохновения или подчиняя требованиям философских доказательств. Греческие мифы никогда не были догмами, но непременной основой мысли, опорой для любого применения. От Гомера до Пиндара, от Платона до стоиков, от великих трагиков до великих историков представление о богах и их деяниях сильно менялось. Эту традицию свободной интерпретации, которая прослеживается у Эвгемера, Аполлодора и многих других, я подхватил там, где ее оставили Овидий и Диодор Сицилийский, и, ступая по следам стольких гигантов, следовал знаменитым примерам, порой ведомый и моей собственной интуицией. |