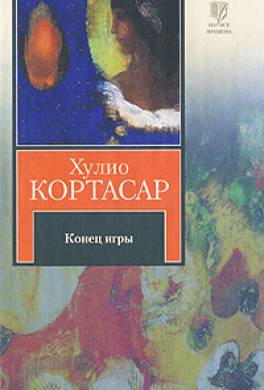Хулио Кортасар. Менады
Где-то раздобыв программу, напечатанную на кремовой бумаге, дон Перес проводил меня до моего места. Девятый ряд, чуть вправо, ну что ж, прекрасное акустическое равновесие! Я, слава богу, знаю театр Корона — капризов у него больше, чем у истеричной женщины. Сколько раз я предупреждал друзей: не берите билеты в тринадцатый ряд, там что-то вроде воздушного колодца, и туда не попадает музыка. А с левой стороны в бельэтаже, точь-в-точь как во флорентийском «Театро Коммунале», некоторые инструменты как бы отделяются от оркестра и плывут по воздуху; вот флейта, к примеру, может зазвучать в трех метрах от вас, а весь оркестр, как ему и положено, останется на сцене. Это забавно, но приятного мало.
Я заглянул в программу — чем нас сегодня угощают? «Сон в летнюю ночь», «Дон-Жуан», «Море» и «Пятая симфония». Ну, как тут не улыбнуться? Ах, Маэстро, старая лиса, опять в вашей концертной программе беззастенчивый эстетический произвол, но… он прикрывает отличное психологическое чутье, которым, как правило, столь щедро наделены режиссеры мюзик-холлов, концертные знаменитости и устроители вольной борьбы. Только со скуки можно притащиться на концерт, где после Штрауса дают Дебюсси и тут же, следом, Бетховена, что уж не лезет ни в какие ворота. Но Маэстро знал свою публику. Репертуар был рассчитан на завсегдатаев театра Корона, а они люди без вывертов, уравновешенные и предпочитают плохое хорошему, лишь бы это было привычно и знакомо. Ничего неудобоваримого и нарушающего их спокойствие. С Мендельсоном им будет легко и просто, потом «Дон-Жуан», такой щедрый, округлый, все мелодии — в памяти, можно напеть любую. Дебюсси — другое дело, с Дебюсси они почувствуют себя людьми искусства: не каждому дано понимать его музыку. А потом главное блюдо — Бетховен, внушительный звуковой массаж, так судьба стучится в дверь, ах, этот глухой гений, победа и ее символ — буква V. А дальше — дальше бегом домой, завтра в конторе дел невпроворот.
В сущности, я питал самые нежные чувства к Маэстро за то, что он принес хорошую музыку в наш незнакомый с искусством город, где каких-нибудь десять лет назад не шли дальше «Травиаты» и увертюры к «Гуарани». Маэстро попал к нам по контракту, заключенному с одним бойким импрессарио, и вот создал оркестр, который по праву может считаться первоклассным. Потихоньку в его репертуаре появились Брамс, Малер, импрессионисты, за ними и Штраус и Мусоргский… На первых порах владельцы лож недовольно ворчали, и Маэстро подобрал паруса, разбавив концертные программы отрывками из опер. Со временем даже Бетховен, которого он нам преподносил, стал награждаться долгими и упорными аплодисментами, ну а кончилось тем, что Маэстро рукоплескали за все подряд, даже и просто за выход на сцену, вот как сейчас, когда его появление вызвало невиданный взрыв восторга. Вообще-то в начале концертного сезона слушатели щедры на аплодисменты и ладоней не жалеют, хлопают с особым вкусом, но что ни говори — все до единого обожали Маэстро, который, как всегда без особой старательности, даже суховато, поклонился публике, быстро отвернулся к оркестрантам и сразу стал чем-то похож на главаря пиратов. Слева от меня сидела сеньора Джонатан, я с ней едва был знаком, но слышал, что она меломанка. Зардевшись, сеньора простонала:
— Вот! Вот человек, который достиг того, о чем другие могут лишь мечтать! Он создал не только оркестр, но и нас, публику! Разве это не восхитительно?
— Да, — согласился я, будучи покладистым по натуре.
— Порой мне кажется, что он должен дирижировать лицом к публике, ведь мы в известном смысле — тоже его музыканты.
— Меня, пожалуйста, увольте! — сказал я. — Как это ни печально, но в моей голове весьма смутные представления о музыке. |