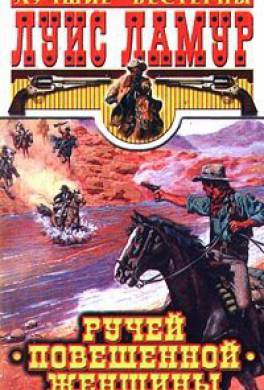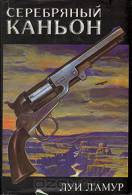Луис Ламур. Ручей Повешенной Женщины
Увязая в раскисшей глине, мы спустились по насыпи и укрылись от непогоды под мостом. Разожгли костерок и, обступив его, принялись гадать: куда же подевались заработанные за лето деньги?
Нас было трое. Еще несколько часов назад мы даже не знали друг друга; теперь же нас объединяла общая цель — мы стремились на Запад. Что до меня, то я возвращался домой. Впрочем, где он, мой дом?.. Ведь я — перекати-поле; ветер изредка прибивает меня к чьей-нибудь изгороди, а потом несет дальше… Куда направлялись мои спутники, я понятия не имел.
Костер тихонько потрескивал, и плясали оранжевые языки пламени, выхватывающие из мрака черный силуэт моста. Временами под навес задували порывы ветра, обдававшие нас холодными брызгами дождя. В эти моменты пламя с шипением стелилось по земле.
Лесные шорохи напомнили мне время, проведенное в Монтане, лагере Хартмана и Лиггетта. Зима была почти бесснежной, лишь изредка налетали вьюги, но морозило вовсю. В тот год ручей промерз до дна, и лед растаял только поздней весной.
И все же, несмотря ни на что, то было славное времечко. Уютная хижина надежно защищена от ветров, пузатая печка в избытке дарила тепло, к тому же я нашел в той хижине кипу старых журналов и несколько книжонок.
А если не было охоты читать, я просто сидел и размышлял.
С юных лет я запоминал места, где побывал. Когда делать было нечего, я деталь за деталью восстанавливал в памяти то или иное событие. А вслед за этим всплывали образы знакомых людей, припоминались и наши разговоры, и все прочее.
Когда припоминаешь все подробности, невольно начинаешь понимать, что дело куда серьезнее, чем казалось поначалу. Да, серьезнее, потому что знаешь: былое постоянно станет возвращаться к тебе в воспоминаниях. Да еще задумываешься о себе самом. А если начинаешь копаться в себе, рассматривать себя как бы чужими глазами, на душе иной раз становится очень неспокойно.
Грош цена тому ковбою, который не способен наблюдать. Что поделаешь, ремесло забрасывает тебя в самые глухие края, и где бы ковбой не оказался, он очень скоро знает каждую лощину, холм, каждый кустик на многие мили вокруг. Ты примечаешь звериные тропы, источники, убежища, где можно укрыть стадо от непогоды, — да мало ли что еще.
Так вот, в том лагере Хартмана и Лиггетта над очагом всегда висел котелок с печеными бобами. И сколько я не ел их, никогда они мне не приедались. Сейчас, сидя в сумерках под мостом у этого распроклятого костра, я вспоминал и лагерь, и этот котелок с бобами. До чего же мне хотелось еще разок их отведать…
Один из моих нынешних спутников, здоровенный негр, заявил, разглядывая меня:
— Похоже, тебе частенько приходилось пускать в ход кулаки?
— Да, случалось, то тут, то там, — пожал я плечами.
— Ты что же, мастак драться?
— Да как сказать… Просто дерусь, и все, как придется.
— А я вот боксировать умею, — откликнулся он.
С виду он казался, пожалуй, на год-другой старше моих двадцати шести. Высокий — около шести футов, крепкого сложения. И кулачищи у него были изрядные.
Да и он обо мне отозвался с похвалой.
— У тебя руки что надо. — Он потрогал мой кулак. — Костяшки ровные. Такие лучше выдерживают удар. Сдается мне, из тебя вышел бы неплохой боксер.
Я собрал еще немного дровишек. Чтобы поддержать огонь, сойдет что угодно: ветки, старые жерди, прутики, все, что подвернется под руку.
— Так когда, говоришь, должен проходить товарняк? — поинтересовался Ван Боккелен.
— В десять двенадцать, если не опоздает.
Ван Боккелен был долговязым, костлявым, белобрысым. Космы спутанных волос обрамляли широкоскулое лицо, не лишенное, однако, некоторой привлекательности. |