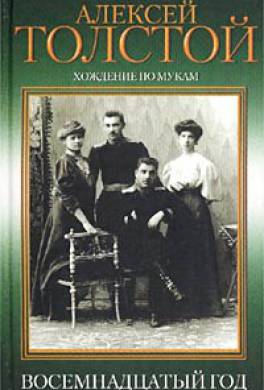Алексей Толстой. Восемнадцатый год
Хождение по мукам - 2
В трех водах топлено, в трех кровях купано,
в трех щелоках варено. Чище мы чистого.
1
Все было кончено. По опустевшим улицам притихшего Петербурга морозный
ветер гнал бумажный мусор - обрывки военных приказов, театральных афиш,
воззваний к "совести и патриотизму" русского народа. Пестрые лоскуты
бумаги, с присохшим на них клейстером, зловеще шурша, ползли вместе со
снежными змеями поземки.
Это было все, что осталось от еще недавно шумной и пьяной сутолоки
столицы. Ушли праздные толпы с площадей и улиц. Опустел Зимний дворец,
пробитый сквозь крышу снарядом с "Авроры". Бежали в неизвестность члены
Временного правительства, влиятельные банкиры. знаменитые генералы...
Исчезли с ободранных и грязных улиц блестящие экипажи, нарядные женщины,
офицеры, чиновники, общественные деятели со взбудораженными мыслями. Все
чаще по ночам стучал молоток, заколачивая досками двери магазинов. Кое-где
на витринах еще виднелись: там - кусочек сыру, там - засохший пирожок. Но
это лишь увеличивало тоску по исчезнувшей жизни. Испуганный прохожий жался
к стене, косясь на патрули - на кучи решительных людей, идущих с красной
звездой на шапке и с винтовкой, дулом вниз, через плечо.
Северный ветер дышал стужей в темные окна домов, залетал в опустевшие
подъезды, выдувая призраки минувшей роскоши. Страшен был Петербург в конце
семнадцатого года.
Страшно, непонятно, непостигаемо. Все кончилось. Все было отменено.
Улицу, выметенную поземкой, перебегал человек в изодранной шляпе, с
ведерком и кистью. Он лепил новые и новые листочки декретов, и они
ложились белыми заплатками на вековые цоколи домов. Чины, отличия, пенсии,
офицерские погоны, буква ять, бог, собственность и само право жить как
хочется - отменялось. Отменено! Из-под шляпы свирепо поглядывал наклейщик
афиш туда, где за зеркальными окнами еще бродили по холодным покоям
обитатели в валенках, в шубах, - заламывая пальцы, повторяли:
- Что же это? Что будет? Гибель России, конец всему... Смерть!..
Подходя к окнам, видели: наискосок, у особняка, где жило его
высокопревосходительство и где, бывало, городовой вытягивался, косясь на
серый фасад, - стоит длинная фура, и какие-то вооруженные люди выносят из
настежь распахнутых дверей мебель, ковры, картины. Над подъездом -
кумачовый флажок, и тут же топчется его высокопревосходительство, с
бакенбардами, как у Скобелева, в легком пальтишке, и седая голова его
трясется. Выселяют! Куда в такую стужу? А куда хочешь... Это -
высокопревосходительство-то, нерушимую косточку государственного
механизма!
Настает ночь. Черно - ни фонаря, ни света из окон. Угля нет, а,
говорят, Смольный залит светом, и в фабричных районах - свет.
|