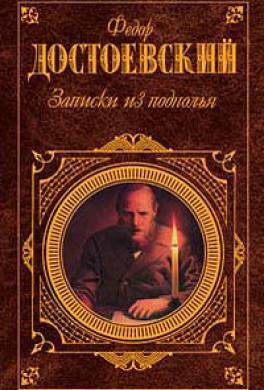Федор ДОСТОЕВСКИЙ. Записки из подполья
I
ПОДПОЛЬЕ [i]
I
Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек. Я думаю, что у
меня болит печень. Впрочем, я ни шиша не смыслю в моей болезни и не знаю
наверно, что у меня болит. Я не лечусь и никогда не лечился, хотя медицину и
докторов уважаю. К тому же я еще и суеверен до крайности; ну, хоть настолько,
чтоб уважать медицину. (Я достаточно образован, чтоб не быть суеверным, но я
суеверен.) Нет-с, я не хочу лечиться со злости. Вот этого, наверно, не изволите
понимать. Ну-с, а я понимаю. Я, разумеется, не сумею вам объяснить, кому именно
я насолю в этом случае моей злостью; я отлично хорошо знаю, что и докторам я
никак не смогу "нагадить" тем, что у них не лечусь; я лучше всякого знаю, что
всем этим я единственно только себе поврежу и никому больше. Но все-таки, если я
не лечусь, так это со злости. Печенка болит, так вот пускай же ее еще крепче
болит!
Я уже давно так живу - лет двадцать. Теперь мне сорок. Я прежде служил, а теперь
не служу. Я был злой чиновник. Я был груб и находил в этом удовольствие. Ведь я
взяток не брал, стало быть, должен же был себя хоть этим вознаградить. (Плохая
острота; но я ее не вычеркну. И ее написал, думая, что выйдет очень остро; а
теперь, как увидел сам, что хотел только гнусно пофорсить, - нарочно не
вычеркну!) Когда к столу, у которого я сидел, подходили, бывало, просители за
справками, - я зубами на них скрежетал и чувствовал неумолимое наслаждение,
когда удавалось кого-нибудь огорчить. Почти всегда удавалось. Большею частию все
был народ робкий: известно-просители. Но из фертов я особенно терпеть не мог
одного офицера. Он никак не хотел покориться и омерзительно гремел саблей. У
меня с ним полтора года за эту саблю война была. Я наконец одолел. Он перестал
греметь. Впрочем, это случилось еще в моей молодости. Но знаете ли, господа, в
чем состоял главный пункт моей злости? Да в том-то и состояла вся штука, в
том-то и заключалась наибольшая гадость, что я поминутно, даже в минуту самой
сильнейшей желчи, постыдно сознавал в себе, что я не только не злой, но даже и
не озлобленный человек, что я только воробьев пугаю напрасно и себя этим тешу. У
меня пена у рта, а принесите мне какую-нибудь куколку, дайте мне чайку с
сахарцем, я, пожалуй, и успокоюсь. Даже душой умилюсь, хоть уж, наверно, потом
буду cам на себя скрежетать зубами и от стыда несколько месяцев страдать
бессонницей. Таков уж мой обычай.
Это я наврал про себя давеча, что я был злой чиновник. Со злости наврал. Я
просто баловством занимался и с просителями и с офицером, а в сущности никогда
не мог сделаться злым. Я поминутно сознавал в себе много-премного самых
противоположных тому элементов. Я чувствовал, что они так и кишат во мне, эти
противоположные элементы. Я ахал, что они всю жизнь во мне кишели и из меня вон
наружу просились, но я их не пускал, не пускал, нарочно не пускал наружу. Они
мучили меня до стыда; до конвульсий меня доводили и - надоели мне наконец, как
надоели! Уж не кажется ли вам, господа, что я теперь в чем-то перед вами
раскаиваюсь, что я в чем-то у вас прощенья прошу?.. Я уверен, что вам это
кажется... А впрочем, уверяю вас, что мне все равно, если и кажется...
Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться:ни злым, ни добрым, ни
подлецом. ни честным, ни героем, ни насекомым. Теперь же доживаю в своем углу,
дразня себя злобным и ни к чему не служащим утешением, что умный человек и не
может серьезно чем-нибудь сделаться, а делается чем-нибудь только дурак. Да-с,
умный человек девятнадцатого столетия должен и нравственно обязан быть существом
по преимуществу бесхарактерным; человек же с характером, деятель, - существом по
преимуществу ограниченным.
|