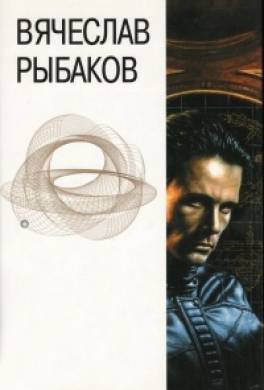Вячеслав Рыбаков. Домоседы
- Опять спина, - опрометчиво пожаловался я, потирая поясницу и невольно улыбаясь от боли. - Тянет, тянет...
- Уж молчал бы лучше, - ответила, повернувшись, жена. - Вчера опять лекарство не принял. Что, скажешь - принял?
- Принял, не принял, - проворчал я. - Надоело.
- Подумать только, надоело. А мне твое нытье надоело. А мне надоело, что ты одет, как зюзя. Хоть бы для сына подтянулся.
- Злая ты, - я опустил глаза и с привычным омерзением увидел свой навалившийся на шорты, будто надутый живот.
Жена кивнула, как бы соглашаясь с моими словами, и вновь сквозь сильную линзу уткнулась в свой фолиант, - ослепительный свет утра, бьющий в распахнутые окна веранды, зацепился за серебряную искру в ее волосах, и сердце мое буквально обвалилось.
- А у тебя еще волосок седой, - сказал я.
С девчоночьей стремительностью жена брызнула к зеркалу.
- Где? - она вертела головой и никак не могла его заметить. - Где?
- Да вот же, - сказал я, подходя, - не суетись.
- У, гадость, - пробормотала жена; голос ее был жалобный и какой-то брезгливый. - Давай, что уж...
Я резко дернул и сдул ее волос со своей ладони - в солнечный сад, в птичий гомон, в медленные, влажные вихри запахов, качающиеся над цветами. Жена рассматривала прическу, глаза ее были печальными; я осторожно обнял ее за плечи, и она, прерывисто вздохнув, отвернулась наконец от зеркала и уткнулась лицом мне в грудь, - очень славная женщина и очень странная, но - как я ее понимал!
- Спасибо, - сказала она сухо и отстранилась. - Глаз - алмаз. Чай заваришь? Сынище, наверное, скоро встанет.
Я заварил свежий чай покрепче и вышел, как обычно, потрусить в холмах перед завтраком; скоро шелестящие солнечными бликами сады остались справа, слева потянулись, выгибаясь, отлогие травянистые склоны, все в кострах диких маков; я уже различал впереди, над окаймлявшими стоянку кустами, белую крышу машины сына; я миновал громадный старый тополь; вот лопнули заросли последнего сада, встрепенулся ветер, и мне в лицо упал голубой простор - и Эми, сидящая перед мольбертом у самого прибоя.
Наверное, я выглядел нелепо и гротескно; наверное, я топотал, как носорог; она обернулась, сказала: "Доброе утро" - и, как все мы улыбались друг другу, безвыездно живя на острове едва не три десятка лет, улыбнулась мне, эта странная и славная женщина, которую я, казалось, еще совсем недавно так любил. Она страстно, исступленно искала красоты, - она то писала стихи, то рисовала, то пыталась играть на скрипке или клавесине, и всегда, сколько я ее помню, жалела о молодости: в двадцать пять - что ей не восемнадцать, в сорок - что ей не двадцать пять; до сих пор я волок по жизни хвост обессиливающей вины перед нею и перед женою, словно бы я чего-то не сумел и не доделал, чем-то подвел и ту и другую.
- Доброе утро, - ответил я.
- Правда же? Чудесное! А к тебе мальчик прилетел?
- Залетел на денек.
- У тебя замечательный мальчик, - сообщила она мне и указала кистью на машину: - Его?
- Его.
- Знаешь, - она смущенно улыбнулась, опуская глаза, - тебе это, наверное, покажется прихотью, капризом одинокой старухи, выжившей из ума... но, в конце концов, мы так давно и так хорошо дружим, что я могу попросить тебя выполнить и каприз, ведь правда?
- Правда.
- Он мне очень мешает, этот гравилет. Просто давит отсюда, сбоку, такой мертвый, механический, навис тут... Понимаешь? Я не могу работать, даже руки дрожат.
- Машина с вечера на этом месте. Ты не могла сесть подальше, Эми?
- Нет, в том-то и дело! Ты не понимаешь! Здесь именно та точка, точка даосской перспективы, больше такой нет! Она уникальна, я искала ее с весны, тысячи раз обошла весь берег...
Наверное, это была блажь.
- Ты не попросил бы сына переставить гравилет - хотя бы вон за те тополя?
- Парень спит еще, - я пожал плечами и вдруг опрометчиво сказал: Сейчас я отгоню. |