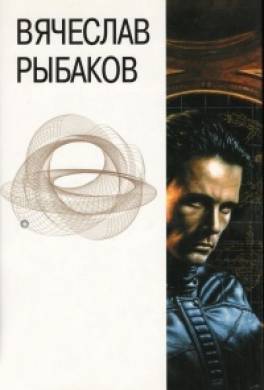Вячеслав Рыбаков. Всё так сложно
Уже одевшись, Алька снова подошел к телефону, и под ногой у него хрустнуло. Алька мельком глянул вниз. Это была сухая апельсиновая корка — хозяйка повсюду рассовывала их от моли. Тщательно собрав оранжевое крошево, Алька высыпал его в помойное ведро. Очень не хотелось оставлять после себя грязь. Потом Алька еще раз попробовал позвонить Юле. Едва застрекотал телефонный диск, бабка приоткрыла дверь своей комнаты, чтобы лучше слышать, — это получалось у нее беззвучно, профессионально, она только не подозревала, что Алька видит происходящее за спиной. В коридор, к делу и не к делу задрапированный пестренькими занавесочками, пахнуло лекарственной старушечьей затхлостью. Алька усмехнулся, отчетливо чувствуя напряженное ожидание хозяйки. Любопытная она была чрезвычайно. Долгие гудки мерно падали в беспросветную пустоту. Забавно, отметил Алька, прислушиваясь к сумасшедшему биению сердца с каким-то отстраненным, болезненным любопытством. Он поглядел на свои пальцы и снова отметил: даже пальцы дрожат. Он решительно повесил трубку. Дверь за его спиной сразу закрылась.
Он вернулся в свою комнатенку. Ни за чем. Постоял у порога, оглядываясь в последний раз. Провел кончиками пальцев по корешкам книг, опять усмехнулся, предвкушая бабкину растерянность. Даже приемник не позволяла включать, старая. Он, дескать, электричество тратит, "а пенсия у меня ма-аленькая…". А за лекарства и продукты, которые покупал ей Алька сверх платы за комнату, деньги и не думала отдавать. Злая бабка, заключил Алька напоследок, но без обычного раздражения. А как она отчитывала Юлю, решившуюся однажды позвонить! Юля… Я пропал, пропал, подумал Алька с веселым, бешеным отчаянием.
Ему снова вспомнилось, как отец водил его смотреть на казнь. Налетавший не больше десятка парсеков юнец, инспектируя один из нижних комбинатов, позволил себе преступную доброту действием по отношению к ребенку касты Производящих. Алька навсегда запомнил радужное блистание необозримых фестончатых зданий и темную громаду Обелиска посреди вознесенной над городом площади — стремительную, грозную, угловато вломившуюся в небо. Выше нас — только небо, говорил отец, наше небо… Отец, Он погиб всего семь лет спустя, в своем небе, и Генеалогическое ведомство было даже не в состоянии указать звезду, возле которой пресеклась его жизнь…
У самого подножия Обелиска, маленький и жалкий, стоял преступник. Адмирал сорвал с него знаки различия и награды, огласил отлучение, и добряк провалился вниз, сквозь все силовые перекрытия, сквозь все предохранительные щиты и барьеры — вниз, вниз, глубоко вниз, на ярус Производящих, где совершил он свое преступление и где ему предстояло отныне, не видя неба, прозябать до конца своих дней. Отец поднял меня над скорбящей толпой, вспомнил Алька и будто почувствовал вновь ласковую, горячую мощь ладоней. Отец, если бы он знал… Хорошо, что он не узнает. Алька забросил на плечо потертую «адидасовскую» сумку с катонным деструктором и «пищалкой» и вышел на темную, пропахшую кошками лестницу. Лифт не работал.
На улице Алька глубоко вздохнул. Здесь, внизу, казалось, будто в мире царит чистота. Сразу расхотелось стрелять, захотелось писать стихи или картины… Сколько снега, подумал Алька, старательно настраивая себя на деловой лад. Трудно будет пробираться по сугробам. Алька шел ровным, быстрым шагом, время от времени перебрасывая тяжелую неудобную сумку с плеча на плечо. Он злился на себя: бывая летом на озере, не удосуживался взять пространственного ощущения, и теперь ему приходилось тащиться местными видами транспорта, потому что телепортировать можно было только в ощущаемую точку пространства. Свежий снег, переливающийся всплесками белых искр, задорно хрустел, и в воздухе то и дело вспыхивали, тут же пропадая, едва уловимые серебряные блестки. Было морозно и беззвучно, Алька шел, выбирая путь по-безлюднее, и встретил только женщину, молча тащившую за руку упиравшегося мальчика лет пяти. |