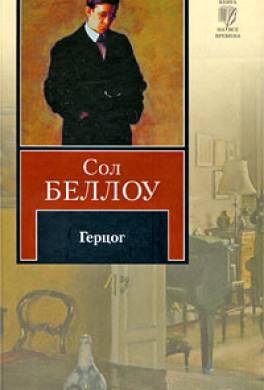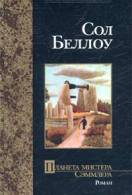Сол Беллоу. Герцог
Пэту Ковичи,
великому редактору и, что важнее, великодушному другу, с любовью посвящается эта книга.
* * *
Если я схожу с ума, то быть по сему, думал Мозес Герцог. Кое‑кто считал, что он помешался, и он сам одно время не был уверен, что наверху у него все в порядке. Но сейчас, при всех своих странностях, он чувствовал в себе уверенность, бодрость, проницательность и силу. Им овладело наваждение, и он писал письма решительно всем на свете. Эти письма его так будоражили, что с конца июня он перебирался с места на место, таская за собой саквояж с бумагами. Он потащил его из Нью‑Йорка на Мартас Виньярд, откуда моментально вернулся, через два дня улетел в Чикаго, а из Чикаго подался в один поселок на западе Массачусетса. Укрывшись в сельской глуши, он безостановочно, неистово писал в газеты, общественным деятелям, друзьям и близким и, наконец, покойникам, начав со своих, никому неведомых, и кончив известными всем.
Для Беркшир это была вершина лета. В большом старом доме Герцог был один. Обычно привередливый в еде, сейчас он ел хлеб из бумажного пакета, бобы из консервной банки и чеддер. Иногда щипал малину в заросшем саду, с рассеянной осторожностью поднимая колючие ветки. Что касается сна, то спал он на голом матрасе – на своем охладелом супружеском ложе – либо в гамаке, накрывшись пальто. Во дворе его окружали высокая остистая трава, белая акация и кленовая поросль. Когда он ночью открывал глаза, звезды казались подступившими призраками. И всего‑то – светящиеся, газообразные тела, минералы, теплота, атомы, но в пять утра многое скажется человеку в гамаке, завернувшемуся в пальто.
Когда приходила очередная мысль, он шел записать ее в кухню, там у него был штаб. С кирпичных стен облупливалась побелка, случалось, Герцог рукавом смахивал со стола мышиный помет, спокойно недоумевая, откуда у полевых мышей такая страсть к воску и парафину. Они выгладывали дыры в парафиновой заливке консервов, до фитиля прогрызли свечи для торта. Крыса въелась в хлебный брикет, оставив в мякише свою матрицу. Герцог съел другую половину булки, намазав ее вареньем. С крысами он тоже умел делиться.
Постоянно часть его сознания была открыта внешнему миру. Утром он слышал ворон. Их пронзительный грай был восхитителен. В сумерках слышал дроздов. Ночью подавала голос сипуха. Когда он с письмом в голове возбужденно шел по саду, он отмечал, что розовые побеги обвили водосточную трубу; он отмечал шелковицу – ее вовсю обклевывали пернатые. Дни стояли жаркие, вечера – распаленные и пыльные. Он остро вглядывался во все, но ощущал себя наполовину слепым.
Его друг (бывший) Валентайн и жена (бывшая) Маделин пустили слух, что его рассудок расстроился. А так ли это?
Обходя вокруг пустого дома, он увидел в тусклом окне, затянутом паутиной, призрак своего лица. Непостижимо спокойным показался он себе. С середины лба по прямизне носа на полные сомкнутые губы пролегла сверкающая черта.
Поздней весной Герцогом завладела потребность объяснить, объясниться, оправдать, представить в истинном свете, прояснить, загладить вину. Он тогда читал лекции в вечерней взрослой школе в Нью‑Йорке. В апреле он еще удерживал мысль, но к концу мая его стало заносить. Слушатели поняли, что им не суждено постичь истоки романтизма, зато они навидаются и наслушаются странных вещей. Все меньше оставалось от академической проформы. Профессор Герцог вел себя с бесконтрольной откровенностью человека, глубоко погруженного в свои мысли. К концу семестра в его лекциях стали возникать долгие паузы. Случалось, он умолкал, обронив «прошу прощенья» и шаря за пазухой авторучку. Под скрип стола он писал на клочках бумаги, испытывая небывалый зуд в руках; он обо всем забывал, его глаза смутно блуждали. На бледном лице все выражалось – решительно все. Он урезонивал, убеждал, страдал, ему представлялась замечательная дилемма: он открыт наружу – он замкнут в себе; и все это безмолвно выражали его глаза, рот – томление, непреклонность, жгучий гнев. |