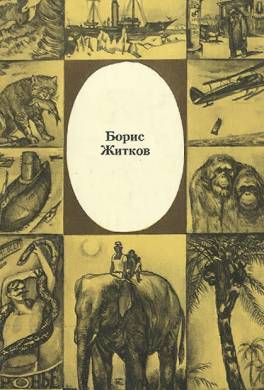Борис Житков. Орлянка
Еще вчера, вчера утром, вывезли матросы убитого товарища и положили его под брезентовым тентом на пункте Нового мола.
Офицер его застрелил.
Сносчики, мастеровые, гаванский люд толпились около брезентового шатра, глухо гудели. А бескровный лик покойника непреклонно отвечал одно и то же: он требовал возмездия.
Старый портовый стражник с медалями под рыжей бородой ровнял народ в очередь. А люди подходили, смотрели и снова заходили в хвост, чтоб еще раз спросить покойника. Подходили посмотреть и укрепиться.
Народу все прибывало, и вот торжественная жуть, как тревожный дым, поползла от порта к веселому городу. Все это было вчера, и как месяц, как год прошел до утра.
Какие-то люди стали разбивать казенный груз с водкой, — они не давали заводским бросать его с пристани в море. Какие-то люди стали зажигать пакгаузы, деревянную эстакаду. Они заперли в складе тех, кто не давал громить и жечь, и сожгли их, живьем сожгли в этом пакгаузе под рев пламени, под пьяное «ура».
Огневым поясом охватила порт горящая эстакада. С треском, с грохотом рвались гигантские дубовые балки.
Затлели пароходы, стоявшие у пристани. Горели постройки, и плотным удушливым дымом потянуло от штабелей угля.
И за треском пожара люди не слышали треска стрельбы: это из города пехотный полк обстреливал порт. Полк привели из провинции. Молодые безусые солдаты. Ночью на ярком фоне пламени черная толпа металась по молу. Ее стегали залпами вперекрест. Она выла и редела.
А штиль, мертвый штиль, не уносил дыма, и он стоял над портом обезумевшим и возмущенным духом. Военный корабль спокойно густым колоколом отбивал склянки. Он считал время и молчал. Его уже не боялись на берегу, не ждала от него помощи метавшаяся в огне толпа. И годы протекали от склянки до склянки.
Наутро смрад стоял над пожарищем. Пахло гарью, и ноздри разбирали среди чада этот особенный запах горелого мяса.
На уцелевшем каменном быке эстакады стоял патруль: ефрейтор и два рядовых-новобранца.
Востроносый прыщавый ефрейтор Сорокин с высоты быка осматривал пожарище и пустую улицу: безлюдную, с мертвыми воротами. Как очки на слепом, темнели стекла окон.
Рябой белый солдат, курносый, без ресниц — Рядков, надо же такое — Рядков! Рядков смотрел на пожарище — дым еще шел от угля и складов — и лазал солдат в карман — по локоть запускал руку. Вынимал семечки: с махоркой, с трухой. Тощие последние подсолнухи.
Утро было теплое, летнее, парное. Но после бессонной ночи казалось свежо, и все трое ежились.
— Которые проходящие — тех бить; никого чтоб не выпускать! — это говорил ефрейтор Сорокин, не глядя на рядовых. Служба на лице и серьез. Сильный серьез: ефрейтор не глядел на рядовых, а все осматривался по сторонам. Дельно и строго.
Рядовой Гаркуша верил, что все сгорели и никто не явится. Хоть и было жутко: а вдруг какая душа спаслась. Бывает.
Рядков еще раз обшарил карман, и стало скучно.
И вдруг ефрейтор Сорокин крикнул:
— Стреляй!
Рядков дернулся. По приморской улице, шатаясь, шла фигура. Кто б сказал, что это человек в этом сером утре? Серый шатается вдоль серой стены. Угорел или с перепою? Как травленный таракан, еле полз человек, спотыкался, шатался, чуть не падал, но шел. Упорно шел, как мокрый таракан из лужи.
— Паль-ба! — скомандовал ефрейтор.
Рядков дергал затвором и выбрасывал нестреленные патроны наземь.
— Деревня! — сказал Сорокин, — сопля! Пройдет… Почему пропустили? Бей!
И Сорокин сам вскинул винтовку.
Человека плохо было видно. Можно б и не заметить.
— Взял винтовку, что грабли! — огрызнулся Сорокин на Рядкова и приложился приемисто, как в строю, — показать дуракам, а они отвернулись. |