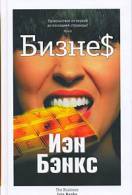Иэн Бэнкс. Песнь камня
Моим родителям
Глава 1
Зима — любимое время года, всегда была. Уже зима? Не знаю. Есть формальные признаки, календари и положение солнца, но, по-моему, просто сознаешь, как безвозвратно изменилось течение времен года; как внутренний зверь твой учуял зиму. Независимо от нашей хронологической разметки, зима навязана этому полумиру, холодное холодеющее небо и низкое снижающееся солнце высасывают ее из земли, она пропитывает душу, проникает в мозг через нос, меж зубов и сквозь пористую преграду кожи.
Сырой ветер взбалтывает, тащит смерчики листвы по серым дорожным колдобинам, горстями сыплет в холодные лужи на дне канав. Желтые, красные, охряные и бурые листья; гамма пожара посреди влажного холода. Несколько листьев еще цепляются за ветки над дорогой; жалкие ручейки в кюветах не обрамляет лед, а холмы по краям равнины бесснежны под полуденным солнцем, что повисло на громадном ломте чистого неба. И все равно, похоже, осень в прошлом. Далекие горы на севере скрылись в осаде серой облачной флотилии. Быть может, на вершинах снег, но нам пока не разглядеть. Оттуда налетает ветер, гонит по склонам пелену дождя. Южнее, в полях — где-то вытоптанных добела и опустевших, где-то изрытых воронками, а где-то успели собрать урожай и земля нага, — столбами поднимается дым, его косо сносит крепчающим ветром. Какой-то миг ветер пахнет дождем и пожаром.
Те, что вокруг, такие же беженцы, ворчат и впечатывают ноги в скользкую плоскость дороги. Мы — человечий прилив — или были им, — поток изгоев, артериальный, проворный в этом недвижном пейзаже, но теперь нас что-то останавливает. Ветер стихает вновь, и в его угасании я обоняю пот немытых тел и вонь двух коняг, что волокут нашу самодельную кибитку.
Ты сзади берешь меня за локоть, сжимаешь.
Я оборачиваюсь, смахиваю тебе со лба черно-угольную прядь. Ты сидишь среди сумок и саквояжей; все набиты вещами, которые, мы надеялись, будут полезны нам и не соблазнят остальных. Еще какие-то ценности спрятаны в открытом экипаже и под ним. Ты сидела ко мне спиной, смотрела на дорогу позади — может, высматривала брошенный дом, — но теперь обернулась, вглядываешься куда-то мне за спину, хмуришься — это портит твое лицо, словно трещина исказила мраморный лик статуи.
— Не понимаю, почему мы остановились, — говорю я. На секунду поднимаюсь, глядя поверх голов. Высокий грузовик в пятидесяти метрах впереди закрывает обзор; здесь дорога где-то с километр идет прямо, меж полями и лесами (нашими полями нашими лесами, нашими землями — я продолжаю думать о них так).
Сегодня утром, когда мы с несколькими слугами влились в поток людей, повозок и машин, он нескончаемо тянулся сплошь по дороге; вереница изгнанников, все движутся, шаркают, глаза потуплены, ковыляют откуда-то с запада примерно на восток. Я никогда не видел такого множества народа; души текут по дороге рекой. Эти беженцы походят на бумажных человечков из детства — силуэты, вырезанные из сложенной газеты, а потом растянутые в гирлянду: все едины, похожи, чуть различны, все принимают форму того, что уничтожено, и — хрупкие, горючие, ненужные — по природе своей провоцируют некое подходящее злоупотребление. Мы с легкостью примкнули к ним, слившись с потоком, однако выделяясь.
Спереди доносится какой-то шум. Кажется, крики; затем сухой треск выстрелов, редких и резких в новых порывах ветра. Во рту пересыхает. Люди вокруг — в основном семьи, кучки родственников — словно скукоживаются. Плачет ребенок. Двое слуг, что ведут лошадей, оглядываются на нас. Через некоторое время поднимается новый мазок дыма, ближе — за грузовиком впереди. Потом вереница людей и машин вновь трогается. Я щелкаю вожжами, и две бурые кобылы топочут дальше. Высокий грузовик плюется дымным облачком.
— Там стреляли? — спрашиваешь ты, обернувшись, поднявшись, глядя мимо моей руки. |