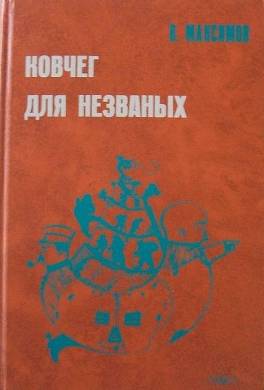Владимир Максимов. Ковчег для незваных
Жене моей — Татьяне — посвящаю
«Ибо много званных, а мало избранных»
Глава первая
1
Сквозь явь, сквозь сон, сквозь завесу ночи, через время времен и еще полвремени, раздвигая тьму тем и дни дней, струятся, стелются, ниспадают над грешной землей два голоса:
— Ты опять был там?
— Был.
— И опять явился просить за них?
— Да.
— Тебе не надоело?
— Нет.
— Но они же вновь предали тебя и прокляли самое твое имя!
— Это не имеет значения.
— Ты неисправим.
— Я твоего роду.
— Чего же ты просишь на этот раз?
— Все того же.
— Они давно забыли себя, им плевать на все, кроме своей ненасытной плоти, и они уже не дойдут.
— Дойдут. Вслепую, но дойдут, только ты помоги им, в последний раз помоги.
— Пусть будет по-твоему, но больше не приходи с этим…
И звездная тишь вновь смыкается над всей земной твердью, над Россией, над деревней Сычевкой, что под самой Тулой.
2
Впрочем, деревней она считалась лишь по названию. Hа сорок без малого дворов крестьянством здесь было занято от силы пять-шесть, да и то вполнакала. Хозяйское оскудение это началось еще в конце минувшего века, когда, волею судеб, через уезд пролегла первая ветка Сызрано-Вяземской железной дороги и окрестная беднота потянулась туда за веселой жизнью, за легкой копейкой. А потом пошло, поехало, загудело под гору: Пятый Год, Столыпинские Посулы, Первая Мировая, Лихая Гражданская и Три Великих Голодухи с Последней Войной в придачу лютой прополкой прошлись по Сычевке, окончательно лишив ее черной земляной основы.
Немногие выживали в этих смертных передрягах, а те, кто все-таки выживал, плодил вокруг себя полое племя, которое с нищего своего малолетства приучалось более к суме и краже, чем к мужицкой тяготе или сельскому ремеслу. Оттого уже в наше время Сычевка и слыла знаменитой лишь тем, что дала округе и человечеству трех матерых, но забитых насмерть конокрадов, двух милиционеров уездного профиля и одного без пяти минут Народного Комиссара, канувшего где-то на долгом этапе между Владивостоком и бухтой Нагаева.
Суетливо шумная эпоха все плотнее обступала деревню отхожими промыслами: по всему горизонту выпростались из-под земли голубые пирамиды шахтных терриконов, среди ближних буераков замаячил тесовый ажур буровых, дохнуло жженой глиной с возникшего, будто по щучьему велению, над запрудой кирпичного завода, да и старая дорога к станционному царству стала еще утоптаннее и шире. Народ бежал земли, как мора, стихийной беды, Божьего наказания. Земля сделалась обузой для человека, его несчастьем и проклятием. Земля только обязывала, не давая взамен ничего, кроме забот, налогов и каждодневного страха. Человек тяготился ею и скучал.
В конце концов из оставшихся около земли хозяев один был кузнецом, другой пасечником, а об остальных не приходилось и говорить: солдатские вдовы с выводком собственных и приблудных ребятишек. Все они числились за соседним колхозом в Кондрове, где составляли особую Сычевскую бригаду, от которой, впрочем, пользы было, как от дождя в прошлогоднее лето.
В гибельной кутерьме смутного существования деревня даже не заметила, как в один из паводков шальная вода, взломав запруды, смыла с лица поверхности ее тихое кладбище (молодые сычевцы умирали в те поры на стороне, а стариков или данников случившейся в одночасье Первой Голодухи хоронили прямо на огородах), а когда, наконец, пришла в себя, то не обомлела, не опечалилась, а покорно взялась возить своих покойников за пять верст, на погост в Свиридово. Вместе с тягой к земле она теряла и память о самой себе. |