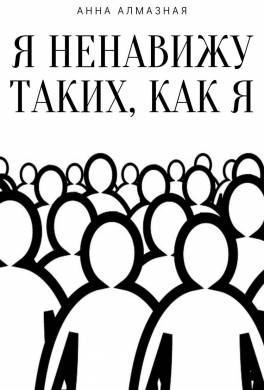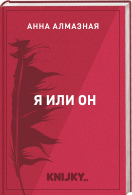Анна Алмазная. Я ненавижу таких, как я
А день начинается так хорошо.
Изумрудом бушует май. Плещет в лицо ласковым светом вялое с утра солнце. За спиной перешептываются сосны, спешит по белоснежной плитке сухой листик, погоняемый ветром. Задыхается трелью в вышине жаворонок, и неясная тоска подкатывает к горлу смутно знакомыми звуками.
— Рассчитайсь!
— Первый! — крикнули в начале шеренги.
Бред, я и петь не умею, и песен не знаю, но в последнее время то и дело мурлычу что-то под нос, когда никто не видит.
— Четвертый!
Складываю слова в фразы, фразы как бусинки нанизываю на мелодии и сразу их забываю. Выплескиваю из души вместе с тоской, чтобы ненадолго наслаждаться сладостным опустошением.
— Седьмой!
Лишь тогда могу на время смириться с безликой жизнью. Со стерильно-белыми стенами учебного здания.
— Девятый!
С безмолвной толпой учеников. Таких, как я.
— Одиннадцатый!
Таких до последней родинки на одинакового оттенка коже. До последнего стежка на идеально чистой, пахнущей свежестью одежде. Ненормально одинаковые, пустые ярко-синие глаза. Светлые, одинаково постриженные волосы. Меня тошнило от этой одинаковости.
— Пятнадцатый!
И эти люди. Они мелькают между нами подобно теням. Скрывают тела под черными костюмами, а лица — под масками. Наши учителя, наши тренеры, наши врачи. Наши слуги.
— Восемнадцатый! — выкрикнул я.
Всегда немногословны, вежливы и обходительны, как роботы. Другие называли их обслуживающим персоналом. Я с недавнего времени — тюремщиками и палачами.
— Двадцать третий!
Кому, к черту, нужен этот жесткий режим? Эти тренировки? Сказать по правде, я раньше не задумывался и жил себе спокойно. Но уже месяц жрут изнутри сомнения и вопросы.
— Двадцать седьмой.
Потому что не может быть всем ученикам по пятнадцать.
— Тридцатый!
И не могут быть все настолько одинаковыми. Я знал (откуда?) что так не бывает.
— Тридцать второй!
Я знал, что оно ненормально… так наказывать за каждую слабость.
— Тридцать чет…
Голос последнего ученика осекся, сорвавшись на кашель. Боясь пошевелиться, я скосил глаза. Так и есть… значит, не приснились мне капли крови в умывальнике. И на вчерашней тренировке этот придурок ударился гораздо сильнее, чем мы думали.
Тридцать четвертый упал на колени. С уголка его губ медленно потекла струйка крови. Не в первый раз я видел подобное, однако в первый раз мне стало горько и тоскливо. Но что я мог сделать? Только смотреть, как мальчишка с моим лицом тяжело дышит, вздрагивает то ли от боли, то ли от страха, и смертельно бледнеет, когда от шеренги людей в черном отделяется один человек.
Плавным, едва уловимым движением он достал из кобуры пистолет. От оружия отразился луч солнца. Резанул по глазам. Стало дурно. И от собственной беспомощности дурно, и от собственного страха, горьким комком подкатившего к горлу. Дурно.
Золотоволосый мальчишка не шелохнулся. Он все так же стоял на коленях, упирался ладонями в уложенную плиткой землю, и даже головы не поднял, когда отливающее металлом дуло коснулось его волос.
— Готов умереть?
Мальчишка посмотрел на нашего тюремщика со знакомым мне до боли… упрямством? Губы расплылись в улыбке, с подбородка сорвалась и разбилась о белый мрамор ярко-красная капля:
— И ты все равно… убьешь? — с издевкой спросил он.
— Таков был договор.
— Пусть так. Лучше я умру живым… вы никогда не узнаете, кто он.
Что. Он. Говорит?
— Мне очень жаль, — сказал мужчина в черном, посмотрев на нашу шеренгу. |